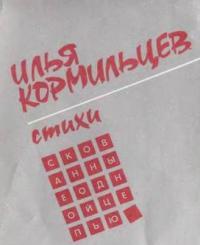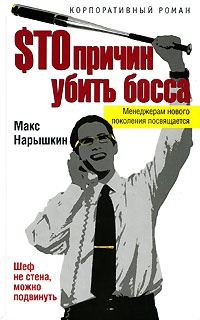Книга Голоса исчезают - музыка остаётся - Владимир Мощенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В своём кабинете Кабаков читал мне кое-что из своего «Кафе»; особенно близким показалось то место, где ребята дают – и, раз-два-три-четыре, раз-два-три, раз, и пошли, по теме сперва, по теме, «ин э мелотон, ин э мелотон, ин э мелотон, вау-вау-ува, прошлись все по теме, и в унисон с Конём, и в сторону отхилял Ржавый, отстегнул дудку, положил на свой стул рядом с кларнетом и флейтой, стал тихонько в уголке за фоно, в тень за сраным раздолбанным пианино, какой там рояль в кафе „Юность“, с какой горы, а Конь уже дует вовсю, сначала по гармонии, нормально, а вот уже и похитрей, и едва ли не по ладу, обгоняя эпоху, засаживает эрудированный Конь, что ему вест коуст, что ему Дэвис, он уже и кое-что похитрее слышал, чем Диззи, он уже и Фергюссона знает, и снимает дай Бог, и дует, и выходит на свист, на писк, на ультразвук, на самый заоблачный верх, где один только октябрьский ветер да пяток гениев…»
Да, говоришь ты, время здесь совсем иное, а твой парк – в довоенном времени, но ребятам и в Бахмуте по-своему, с помощью музыки хотелось вырваться в заоблачную высь, это нетрудно представить себе; я хорошо вижу твоего Пантюшу и то, как приходит он с гитарой в летний кинотеатр, чтобы озвучить немой фильм, понимаю, почему его синкопы в ритме вальса или танго завораживали публику, и фильм уже никому не казался немым… Я не могу сдержаться и цитирую античную лирику: «Звонкою лирной игрою чаруемы, гибкие деревья на вещее чело склоняли тени…»; сам замечал мальчонкой, как женщины, не стесняясь нисколько, хлюпали носами, да и мужчины были близки к этому; вот так терзал Пантелей души каждой своею нетрезвой струною; он тоже вздыхал, играя, – разве мог я не заметить этого? И добавляю: где достойные, подходящие краски, чтобы описать те благословенные мгновенья, когда после заключительных кадров и слова «Конец» на слепнущем экране вдруг, как всемирный потоп, обрушивалась белая акация заодно с ярчайшим светом зажёгшихся электроламп, обрушивалась прямо на нас, на скамейки, на распахнувшиеся воротца, уже покинутые билетёршами, и когда всем, ошарашенным, и подавленным, и возвышенным, хотелось быть незащищёнными детьми…
А каким же инструментом, говорю я, передать тревогу ночей начала тридцатых годов, когда карающий пролетарский меч завис над головами людей, прежде всего талантливых и энергичных? Твой отец, Николай Александрович, имел несчастье появиться на свет одарённым щедро и всесторонне. Сослуживцы всегда величали его архитектором от Бога. Он построил прекрасные дома в Петербурге и Нижнем Новгороде, а главное – был добрым и гуманным начальником, симпатичным и отзывчивым человеком. Право, недостает саксофона, твоего саксофона, самого первого и самого рыдающего, который и появился в твоей судьбе, может быть, для того, чтобы ты выразил свою печаль, оплакал свои горькие утраты.
…Ах, Алексей Николаевич, как проник в наши сердца благородный Сэмми Дэвис, помянувший со слезами на глазах беспутного и гениального, обречённого на погибель и на бессмертие саксофониста Паркера и спевший с оркестром Каунта Бейси «Блюз для мистера Чарли»! У нас же пока нет блюзов, посвящённых близким, родным людям.
Увы, соглашаешься ты, нету, хотя они нужны, да ещё как; многим бы я их посвятил; символично, пожалуй, что я родился в тюрьме, в городе, названном именем пролетарского писателя, ненавидевшего джаз. Для иных этот факт мало что значит. А для меня это глубоко символично. Тут уж никакой иронии судьбы! Размышляю о месте своего появления на свет Божий – и просто не могу пройти мимо «исторической» статьи Горького, о которой вспомнили большевики, протрубив поход против космополитизма и заставив детишек учить её в школе. Я кое-что написал в своей жизни, но едва ли не наибольшее удовлетворение принесла мне моя очень маленькая «пьеса для радио», озаглавленная «О музыке тонких». Может, процитируем её? Непременно, говорю я. Вот она, «пьеса», буквально несколько строчек: «Телефонный звонок. Голос с сильным грузинским акцентом: „Алло, Сталин слушает. Кто это?» В трубке – окающий, нижегородский басоне: «Это Горький. Писатель пролетарский. Я из Италии, с острова Капри». – «Ну, что там у вас?» – «С продуктами хорошо. Еды много. Да только все обжираются непотребно. И всюду – джаз. Даже по радио. А я его никак понять не могу». – «Это музыка толстых, Алексей Максимович. А вы у нас худой совсем. Приезжайте. Мы разберёмся». Трубка повешена. Короткие гудки. Горький, как известно, приехал. И с ним разобрались».
Тебе, напоминаю я, не могли не припомнить твоё отношение к основоположнику социалистического реализма, верно? И постарались это сделать, так сказать, в нужном месте и в нужное время. Было такое, говоришь ты, ещё как было. Но об этом – попозже, в свой черёд. А сейчас – о чуде, о том, что в 1939-м отца неожиданно освободили, причём посоветовали не крутиться под ногами, сматываться. И мы, не теряя ни одного лишнего дня, направились в Москву. Может быть, мне ещё удастся написать рассказ или повесть о переживаниях мальчика, который испытывал радость, вдруг очутившись в столице, в знаменитом алябьевском особняке. Само собой, чуть ли не на чердаке, а не в барских покоях. Но тем не менее. Я ловил обрывки фраз в разговоре взрослых о том, что тут будто бы бывал сам Пушкин, а Гоголь читал здесь вслух «Мёртвые души». Вот какие тени разгуливали по нашему особняку! У меня, продолжаешь ты, чешутся руки описать Новинский бульвар, его дома, его липы, его вывески, его стенды для газет, его пешеходов – всё, что характерно для предвоенного времени. Мне бы воспеть шикарный гастроном на Смоленской и содержимое наших книжных шкафов! Каких только книг у нас не было! Отдельное слово я должен сказать о старшем брате, о Славе. Он позволял мне крутить ручки радиоприемника СИ-235. Надо ли объяснять, что это такое? Ну и самое основное – патефон, гордость брата, его пластинки, аккуратно уложенные в специальные чемоданчики и в роскошные альбомы.
Вот-вот, подхватываю я, недаром тогда пели: «У меня есть дома патефончик… Он меня когда-нибудь прикончит!»
И что, ты запомнил названия тех пластинок? Представь себе – запомнил, говоришь ты, и названия, и всю эту музыку, и как я впервые услышал слово «джаз». Иначе бы я не сумел через бездну времени написать в новой книге «Баташ»: «При соприкосновении стальной или пальмовой иголки с крутящимся диском рождалась музыка, от которой что-то внутри начинало пульсировать, трепетать, а после того как пластинка кончалась, в ушах ещё долго держалась память о звуке, и это хотелось повторять и повторять». А ведь ты поэт, замечаю я, звук для тебя – постоянный предмет вдохновения, нечто вожделенное, неуловимое, ускользающее. И тут мы с тобой родственники, чему я несказанно рад. Скорее всего, не случайно одну из своих книг я назвал «Родословная звука» – и сделав это, ощутил своё бессилие удержать на бумаге услышанное или увиденное. Не случайно появились у меня и такие строчки:
Подносит он к губам трубу.
Сверкает запонка в манжете.
Предугадав свою судьбу,
Не так уж просто жить на свете.
Играй, как Господу молись,
Играй, как будто рвёшь оковы,
И тем, кто закрывает высь,
Скажи трубой своей: «Да что вы?!»