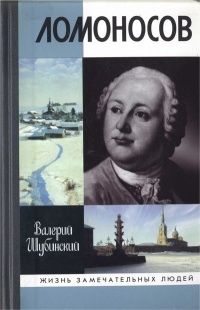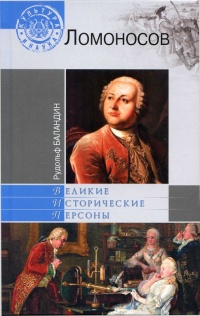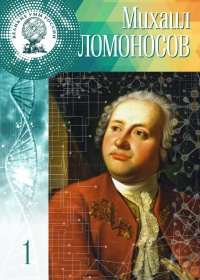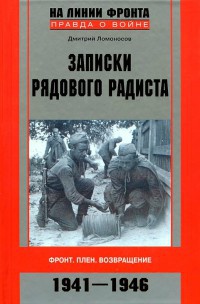Книга Ломоносов. Всероссийский человек - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И с шумом вниз с холмов стремится.
Лавровы вьются там венцы,
Там слух спешит во все концы;
Далече дым в полях курится.
Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю,
Теку поспешно к оных лику.
Врачебной дали мне воды;
Испей и все забудь труды;
Умой росой Кастальской очи,
Чрез степь и горы взор простри
И дух свой к тем странам впери,
Где всходит день по темной ночи.
Удивительный контраст даже с лучшим у Тредиаковского той поры! Не говоря уж о звоне и музыке новорожденного русского ямба — на две строфы лишь одна стилистически наивная и неловкая, на нынешний слух, строка: «Внимая нечто, ключ молчит, которой завсегда журчит».
Дальше начинаются разветвленные барочные сравнения, обличающие в молодом русском поэте изощренного читателя силезских лириков. «Тьмы татар» (противники именуются только так: слово «турок», видимо, кажется Ломоносову не освященным старославянской традицией и потому менее поэтичным) движутся на русских так:
Корабль как ярых волн среди
Которые хотят покрыта,
Бежит, срывая с них верьхи,
Претит с пути себя склонити;
Седая пена вкруг шумит,
В пучине след ее горит…
Навстречу им русские:
Как сильный лев стада волков,
Что кажет острый ряд зубов,
Очей горящих гонит страхом,
От реву лес и брег дрожит,
И хвост песок и пыль мутит,
Разит извившись сильным махом.
Как почти всегда в барочной поэзии, образ оказывается сам по себе не менее, если не более важен, чем та мысль, тот реальный процесс, который он иллюстрирует.
Все это — лишь прелюдия, которую венчает гениальная пятая строфа:
Не медь ли в чреве Этны ржет
И, с серою кипя, клокочет?
Не ад ли тяжки узы рвет
И челюсти разинуть хочет?
То род отверженной рабы,
В горах огнем наполнив рвы,
Металл и пламень в дол бросает,
Где в труд избранный наш народ
Среди врагов, среди болот
Чрез быстрый ток на огнь дерзает.
Тут не знаешь, чем больше восхищаться: мощью и энергией первого четверостишия или великолепной звукописью пятой, шестой и седьмой строк, изобретательностью, с которой Ломоносов описывает «высоким» риторическим языком артиллерийскую канонаду, притом почти имитируя ее звон и мерный грохот… Или совершенно незабываемым и неповторимым — «в труд избранный наш народ». (Избранный, благословенный, Новый Израиль, призванный победить «агарян» — «род отверженной рабы», но избранный — «в труд». Какая отчетливость и какая смелость исторического самосознания — в эпоху растерянных себялюбцев!) Или неожиданным — «среди врагов, среди болот»?
Сражение, описанное Ломоносовым, — лишь яркий до неправдоподобия сон. Реалистических батальных сцен, которые есть у Гюнтера, здесь не встретишь, и если у немецкого поэта на пирушке по случаю заключения мира пьет и хвастается такой живой и узнаваемый Ганс, то в конце оды Ломоносова «солдатскую храбрость» и наступившую «тишину» воспевает совершенно безликий «пастух». В чисто риторических местах влияние предшественника сказывается сильнее:
Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицом,
Умытым кровию мечом
Гоня врагов, Герой открылся.
Имеется в виду Дмитрий Донской. Затем являются Петр (единственный, названный по имени) и «смиритель стен Казанских» — Иван Грозный. Все они благословляют Анну, продолжательницу их дела. У Гюнтера так же точно появляются победители «агарян» — Скандербег и Годфрид Бульонский… А также Ахилл и Эней, признающие превосходство принца Евгения. Поразительно, кстати, что у Ломоносова имя полководца, одержавшего победу (Миниха), не упоминается вообще, а из вражеских военачальников фигурирует лишь почему-то Колчак-хан, чья роль в битве была второстепенной (он командовал одним из флангов). Подробности сражения интересуют его мало, как и мечта о Константинополе. Хотинская победа — лишь повод для языковой, ритмической, звуковой работы, для ярких образов, неожиданных оборотов («Но враг, что от меча ушел, страшится собственного следа») и смелых гипербол. Геополитика — лишь источник пышных топонимов:
Дамаск, Каир, Алепп сгорит;
Обставят росским войском Крит;
Евфрат в крови твоей смутится[54].
Но впервые эти имена и названия были так произнесены русской музой…
«Письмо о правилах российского стихотворства», приложенное к оде, удивляет — в сравнении с трудом Тредиаковского, совсем не кратким — своим лаконизмом. Ломоносов не исследует, не доказывает — он конспективно излагает выводы, к которым пришел после нескольких лет работы с русским стихом, и предписывает правила будущим поэтам.
Для начала — три основополагающих правила. «Первое и главнейшее мне кажется быть сие: стихи следует сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить». Но и ограничений, чуждых духу языка, быть не должно. А поскольку «наше стихотворство лишь начинается, того ради, чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надо смотреть, кому и в чем лучше подражать».
Первые собственно версификационные нормы, которые постулирует Ломоносов, совпадают с уже сказанным Тредиаковским: «…в российском языке только те слоги долги, на которые падает сила», и при писании стихов следует «нашему языку свойственные стопы, определенным числом и порядком утвержденные, употреблять».
Но с принципом построения стихов, предложенным Тредиаковским, Ломоносов не согласен. «Не знаю, чего бы ради иного наши гекзаметры и все другие стихи, с одной стороны, так запереть, чтобы они ни больше, ни меньше определенного числа слогов не имели, а с другой, такую волю дать, чтобы вместо хорея употреблять ямба, пиррихия и спондея?» Русский язык «не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную с ними, а себе купно и свойственную версификацию иметь может». Смешение немецкой силлаботоники с латинским и греческим квантитативным стихом основано на том, что Ломоносов (как и Тредиаковский) называет ударные слоги «долгими» (что не совсем точно). Однако размеры и их названия в силлаботонике действительно заимствованы из античного стиха.