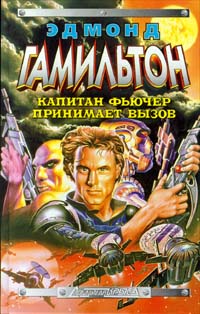Книга Сердце меча - Ольга Чигиринская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы… это делали, мастер Порше?
— А если бы я ответил «да», мастер Суна?
После паузы Дик решительно сказал:
— Вы же не знали, что можно не подчиниться. И в Крещении вам простились все грехи.
— Неважно, делал я это или нет. Сделал бы по приказу. Мы верили, что мучительная смерть возвышает человека. Многие наши враги показали большую смелость.
Дика передернуло.
— Мастер Суна, вот что я вам скажу: вы бы помирились с мастером Кристи, что ли, — сказал Рэй. — Да и к Джеку вы не ходите.
Дик скрипнул зубами, и синяк тут же напомнил о себе. Стараниями Моро на следующий день юноша мог смотреть на мир двумя глазами, но еще долго видел свою переносицу без зеркала. Бет… При одной мысли о ней тошнит — но уже совсем не потому, что хочется плакать. Просто она мелкая стерва.
— Я подумаю, — сказал он.
* * *
Констанс долго не представлялся случай поговорить с Майлзом наедине — и наконец она, махнув рукой на приличия, заявилась к нему после вахты в каюту, как недавно к Морите. Шеэд в каком-то смысле представлял собой полный контраст с вавилонянином. Морита играл, причем, играл, не скрывая того, что играет и получает от игры немалое удовольствие. Шеэд был настолько естествен, насколько это вообще возможно. Энигматичность Моро предназначалась к тому, чтобы привлекать к нему нужных людей, а ненужных отталкивать — как раскраска бабочки, которая призвана действовать и на брачного партнера, и на врага, призывая первого и пугая второго. Майлз никого не пугал и не привлекал, он просто положил печать на свое прошлое, и, видимо, имел на это серьезные причины. Реонти, изгнанниками-отшельниками, становились те, кто совершил грех, настолько тяжелый по понятиям шедайин, что не видел себе после этого места в их сообществе — или понес утрату настолько тяжелую, что не в силах оставаться там, где даже вид соплеменников напоминает о ней. Именно поэтому расспрашивать реонти об их прошлом в любой форме было вопиющей бестактностью.
Майлз, как и Моро, усадил ее на свою постель, а сам устроился на постели Дика.
— Гости моего крова без угощения не уходят, — сказал он, доставая фляжку-термостат и два маленьких стаканчика из непрозрачного белого стекла. Во фляжке было легкое, как вдох, белое вино.
— Скажите, Майлз, насколько крепкие узы связывают ученика и учителя у шедайин?
— Ненамного менее крепкие, чем связывают супругов. Учитель не может разорвать их по своей воле, только в редких случаях… Тиийю… ученик — более свободен. Если он желает эти отношения разорвать, учитель мешать ему не вправе.
— Вы почему-то считаете, что Дик разорвал ваши отношения?
— Он произнес троекратное отречение, по обычаю.
— Он наверняка сделал это сгоряча, не подумав.
— Мне сложно разбирать людские мотивы.
Констанс задумалась, глядя на него. Не мог же шеэд, изгнанник, повидавший и переживший всякое, обидеться на мальчика, как пансионерка на подружку. Должна быть более глубокая причина.
— Вы не замечаете, что Моро все больше завладевает вниманием мальчика?
— Значит, Дик научился прощать врагам. Разве это не должно меня радовать?
— Дело не в прощении. Вы или ничего не понимаете, или прячетесь от понимания. Дик ничего не простил Вавилону — именно поэтому он хочет побольше узнать о Вавилоне. Разве у вас никогда не было заклятых, смертельных врагов, Майлз? Разве вы не бывали ими своеобразно очарованы?
В лице шеэда что-то изменилось, почти неуловимо.
— Да, так бывало, — сказал он.
— Я не знаю, что связывает вас с мальчиком помимо уз ученичества и учительства, но если там есть хоть что-то еще: заклинаю вас, перешагните через обычай. Дик сейчас отчаянно нуждается в дружбе, а ищет вражды.
— Это мне трудно понять. Мне всегда было трудно понять людей.
— Простите мне бестактный вопрос: сколько лет вы живете среди нас?
— Со времен Клавдия Второго.
«Более полутора столетий», — прикинула Констанс.
— И с каждым годом я запутываюсь все сильнее, — продолжал Майлз. — Сейчас я ошибаюсь в людях реже, чем прежде: опыт дает очень многое. Но я ошибаюсь сильнее, чем прежде — потому что там ошибаюсь, где люди не укладываются в рамки опыта. Почему вы боитесь, что мальчик сведет дружбу со вчерашним врагом?
— Он скверный человек, — Констанс не могла объяснить, в чем дело, не дезавуировав свидетельства Моро в пользу Дика.
— Но что, если я — скверный шеэд? Вы не знаете, почему я реон. И я не собираюсь вам этого открывать, скажу одно: Ри’шаард — первый человек за долгое время, которого я решился взять в тиийю, не боясь искалечить.
Констанс отметила явно неслучайную оговорку: обычно Майлз называл мальчика Рикардом. Она знала, что имена и прозвища, которые шедайин дают людям, они дают не просто так. Чтобы получить от шеэда имя «Петр», нужно действительно быть скалой…
— Кто знает, не избирает ли он сейчас более верный путь?
— Я знаю, — Констанс слегка стукнула ребром ладони по постели. — Прибежище несправедливо обиженных — гордыня, а она — мать всех грехов.
— Вы уверены в том, что мальчик был обижен несправедливо?
— Да.
— Потому что об этом свидетельствовал Морита?
— Нет. Свидетельство Мориты было ложным, он не мог слышать разговора на аварийной лестнице. Дик сам пришел и сказал мне об этом, и я поверила ему окончательно. Только очень честный человек будет свидетельствовать сам против себя из любви к правде.
— Или очень хитрый.
— Майлз! Не можете же вы так думать о Дике!
— Я сказал: я там ошибаюсь, где люди не укладываются в рамки опыта. Никто не назовет Ри’шаарда типичным мальчиком. Для меня долго были загадкой слова А-Тиарна[29]о людях, которые мудры, как змеи и просты, как голуби. У нас нет птицы, которая символизирует простосердечие и пресмыкающегося, которое символизирует мудрость. Когда Ааррин переводил Евангелие, он встретил тут затруднение и перевел «голуби» как «птенцы», а «змеи» — как «идра’анти». Это твари, похожие на хорьков, очень сообразительные. Они забираются в гнезда и похищают птенцов и яйца. Мало кому удается примирить птенца и идра’ана в своей душе. Я знаю, что я идра’ан. И Морита — идра’ан. И Дик тоже. Но он был еще и птенцом — пока девица не ударила его в сердце. Если птенец убит — какая разница, какой из старых идра’анти будет учить молодого таскать яйца?
— А больше вы ничему его не можете научить?
— Больше я ничего не умею.
— Позвольте не поверить. Вы старше меня, старше всей нашей империи. Может быть, всего рода человеческого — и вы ничего не умеете, кроме как ловко орудовать мечом?