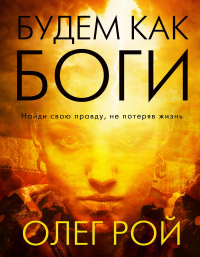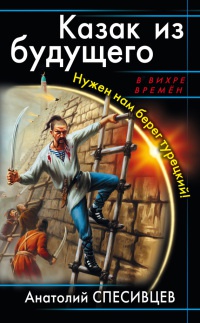Книга Дорога на Тмутаракань - Олег Аксеничев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Любава не слышала, как погиб ее отец. Только конский храп, затем – затишье, гортанные переговоры на тюркском, и…
Взлохмаченный страшный всадник ворвался во двор, и створки ворот жалобно заскрипели ему вслед. На обнаженной сабле бродника зловеще отблескивали солнечные лучи, слепящими сполохами разлетаясь красновато-кровавыми зайчиками. В левой руке бродник сжимал чадивший факел, тут же полетевший на крышу кузни.
Любава сама не поняла, как у нее в руках оказался стреломет. Спусковая скоба прижалась к ложу смертоносной машины словно сама по себе, тетива басовито щелкнула, и бродник стал навзничь заваливаться на круп своего коня. На лбу бродника, куда вонзилась стрела, крови не было, зато с наконечника, на палец высунувшегося из затылка, хлестал фонтан, заливая в испуге ржущего коня.
Любава в ужасе глядела на убитого ею человека, не замечая ничего вокруг.
К действительности ее вернул удар кнута, ожегщий руки и выбивший стреломет на землю.
– Плохо себя ведешь, девушка, – с укоризной, растягивая слова на восточный манер, сказал половецкий воин с седыми прядями в волосах. – Ай как плохо! Духи создали женщин не для смерти, для удовольствия… Что же ты, а?..
Прорвавшиеся на улицы посада половецкие воины вызвали переполох на стенах путивльского детинца. В тени навесов-забрал дружинники засуетились, подтаскивая поближе к бойницам связки стрел, разводя огонь под чанами с водой. Кипяток при осаде – оружие не менее страшное, чем стальной меч. Ошпаренная ладонь не удержит человека, взбирающегося по лестнице на верх стены.
Стараясь не мешать, княжич Владимир Ярославич стоял у бойницы, с ужасом глядя на поднимающийся над посадом черный дым пожаров. Горело там, где жила Любава, и княжич молился, чтобы все обошлось.
– Поредеет народец путивльский, – с горечью сказал кто-то за спиной княжича. – Дом-то что, дом отстроить можно, а вот человека… Как пропустили ворогов, не сдержали только?!
Владимир невольно бросил взгляд наверх, где в окружении бояр и воевод стояла у края башенного ограждения его сестра, княгиня новгород-северская Ефросинья Ярославна. Стояла, подобно серебряной статуе, недвижно и бесстрастно, глядя на пожар, как тысячелетие назад презренный Нерон на пожираемый огнем Рим. Оттуда, с высоты, не слышны были крики умирающих от стали и пламени людей; только лето сменилось будто осенью, и в зеленой листве больше стало желтого и красного.
Пожар – что осень. Умирание бытия.
В глазах княгини не было ни слезинки.
– Воевода Тудор!
Ярославна не оборачивалась, зная и без того, что воевода постарается подойти поближе и ничего не упустить из сказанного княгиней.
– Ты по-прежнему хочешь ударить на половцев от северных ворот? – И, не дожидаясь ответа, княгиня продолжила: – Пришло время, воевода! Бери свою дружину и дай волю мечам!
– А как же посад? – прошептал кто-то из бояр.
Шепнул он тихо, но княгиня услышала.
– Тысяцкий Рагуйла!
Как будто не слабая женщина, но сам Ярослав Осмомысл, поседевший в сражениях, отдавал приказы! И не громко, может, но не ослушаешься…
– Со мной пойдешь, тысяцкий! Посад выручать. А как побегут половцы, так воеводе Тудору им дорогу к отступлению хорошо бы закрыть. Успеешь, воевода?
– Надо успеть, княгиня!
– Верно говоришь, надо! Хочу здесь, под Путивлем, схоронить воинство Гзака с самим самозваным ханом в первую очередь.
Князь Ярослав Черниговский, ты, подпирающий горы венгерские своими железными полками, стреляющий с отцова княжьего золотого стола в солтанов степных, – гордишься ли ты своей дочерью? Взгляни в глаза ее, глядящие на окружающих с достоинством сознающей свою всесокрушимость ледяной глыбы. Не страшно, что тебя, лично рубившего головы непокорным боярам, превзошла женщина, хотя и твоих кровей? Или лестно?!
– К бою, господа воины!
И княгиня первая повернулась и пошла по лестнице вниз, где истомились в ожидании дружинники.
Встрепенулись, как на ветру перед бурей, стальные кроны копийного леса. Воинам, испытанным в сражениях, все стало ясно уже по выражению лиц княгини и спешивших за ней бояр. И, как первый гром, прозвучали слова Ярославны:
– К бою, господа воины!
Воину с седыми прядями в волосах понадобилось только несильно толкнуть Любаву, чтобы та упала на утоптанную траву родного двора.
– Нехорошо, – неожиданно севшим голосом продолжал твердить воин. Затем, повернувшись к подоспевшим товарищам, сказал: – А ну, пособите!
Отбросив кнут, половец опустился на одно колено рядом с девушкой, провел рукой в кольчужной перчатке вверх по ее бедру. Уткнулся пальцами в прикрепленное к поясу полированное металлическое зеркальце. Вздохнул едва слышно.
– Как у наших девушек, зеркало это. И сама ты хороша, как половчанка!..
Любава почувствовала, как рвется под сильной рукой подол сарафана, забилась, но бесполезно. Два воина, бродник и еще один половец, распяли ее на траве, и не гвоздей хватило Любаве для смертной муки – ладоней да коленей незваных врагов.
Боль была до странного терпимой. Куда горше и больней было насилие над душой. Пустые глаза насиловавших ее воинов Гзака. Гнетущее равнодушие.
Неужели даже такое может стать привычкой?!
Господи! Помоги рабе Своей!
Господи! Господи!
Где же Ты, Господи?
ЕСТЬ ЛИ ТЫ, ГОСПОДИ?!
* * *
– С нами Бог!
Воевода Тудор вел застоявшихся без дела дружинников к северным воротам Путивля, и посадские со вздохами облегчения провожали идущую на рыси конницу. Господь помог, считай, отбились!
Скрипнули на петлях створки ворот северной башни. Несколько половецких стрел, не веря собственной удаче, влетели по открывшейся дороге в посад, с визгом выискивая на излете хоть какую-нибудь жертву.
У стрелы одна жизнь, и прожить ее надо так, чтобы кому-то стало мучительно больно…
Навстречу бесцельно истраченным стрелам, ощетинившись жалами копий, осиным роем вырвалась дружина Тудора. Хлопала на теплом ветерке хоругвь с суровым ликом Спаса, в тон вражеским стрелам свистели воины, погоняя коней навстречу врагу.
И лошадиный храп в мгновение смешался с предсмертным хрипом первых убитых. Падали, кровавя траву и иссохшую землю, зарубленные и простреленные насквозь, падали, пронзенные копьями, изувеченные ударами палиц и кистеней. Раненых старались добить, а когда не получалось либо не хватало времени, топтали конями, по брюхо забрызганными кровью, мгновенно покрывавшейся пылью. И – новой кровью. И – снова пылью…
Половцы, чей хан был в отдалении, у восточных ворот города, не выдержали удара русской дружины и отступили, продолжая, однако, осыпать врага ливнем стрел. О сдаче в плен они и не помышляли; знали, что бесполезно, все равно зарубят в горячке боя.