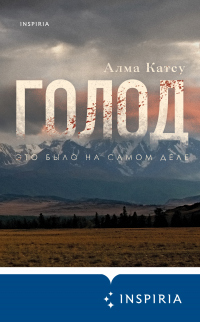Книга Балканский венец - Вук Задунайский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не плаши се, анђеле мој. Нисам медвед, не уједам[97].
Подошел король к Симонис совсем близко – слышала она уж дыхание его жаркое. Ждала, что скажет он ей. Подняла голову, дабы посмотреть на него, но тут снова мелькнули пред ней те самые дивные глаза, лишившие ее покоя когда-то. Заструился сладкий багровый сок по ягодам виноградным, умастил елей сосуды потаенные. И то, что случилось в сей миг, не имело объяснения ни на языке ромеев, ни на языке латинян, ни на сербском – обвил господарь хрупкий стан ее руками и увлек за собой на ложе. Как дикий зверь налетел на нее, порвал одежды драгоценные, раскидал повсюду. Зазвенела корона, покатилась по полу. Завладели чужие руки и губы телом ее, и не было для них там ничего запретного. Узри такое ромеи, лишились бы дара речи, ибо не принято дочерям базилевсовым подол рвать и охаживать их, как девок простых. И прямо как тогда, на реке, будто подстегнул король коня своего плетью да погнал вперед.
На всю жизнь запомнила Симонис ту скачку. Пустил господарь коня своего во весь опор, и казалось – вот сейчас он раздавит ее, разорвет на мелкие кусочки. Будто в жернова попала она – так сдавило ее и сжало. Боль пронзила все тело, и сиплый стон вырвался из горла, но он только распалил всадника. А под окнами голосили что-то несусветное. Пыталась она вырваться, потом едва не лишилась чувств от боли и стыда – но сильные руки в толстых золотых запястьях крепко держали ее, а что-то чужое и страшное проникало в самое сокровенное, будоража его. Тяжкое дыхание задавало ритм песни, жуткой и манящей. Летел конь, мерно качаясь, будто по волнам, и всхрапывал, подобно зверю. На самой вершине горы осадил господарь коня своего, и вместе упали они с обрыва крутого под крик, от которого небо валится на землю. Багровый сок от смятых ягод виноградных стекал по телам, капал на белое полотно. Чудилось ей в этом что-то неправильное, не так все должно было быть, но оцепеневший от смятения разум мог только давать ответы на вопросы, которых не знал. Вывел ее из забытья голос, тихо, но властно сказавший:
– Одсад моје срце теби припада, моја краљице![98]
Окровавленная простыня вывешена была с балкона опочивальни королевской, дабы узрел народ свидетельство чистоты королевы своей и доблести короля. Варварский обычай. Напрасно опасалась королева Елена, что дочь базилевса еще слишком молода, дабы стать женой мужу своему. На то отвечал ей Милутин, что ежели недостает у мужа иного крепости в членах – так нечего на жену пенять, ибо все в этом деле зависит от мужчины. Раз может он взять – так берет, кого ему спрашивать?
Но простыня еще не была концом всему. Раз за разом продолжался для Симонис этот кошмар, совсем измучил ее господарь – неудивительно, что жены его жили недолго, кто ж такое выдержит. Всю ночь до утра подгонял он коня своего да столь отвратительным вещам учил ее, что она и представить себе не могла, что бывает такое. Хотелось ей провалиться сквозь землю от стыда. И почему не ушла в монастырь она сразу? Приоткрылась пред ней дверь в неведомое, но плата за это была высока. А под окнами гремели, встречаясь, чаши со шливовицей: «У здравље господара! Свима би такве моћи, као он у својим годинама![99]»
Тяжела была рука Неманичей. Непреклонна их воля. Дано было им более, нежели другим. Все мужи из сего славного рода жили долго, если не были убиты, и сила их являла себя во всей красе своей после того, как разменивали они пятый десяток.
Но не кончился еще свадебный пир, не отгремели песни застольные, не осушены были чаши заздравные, как пополз слух в народе. Мол, дочь базилевсова-то – только на вид ангел ангелом, а на деле – ведьма, змеюка подколодная. Сглазила она господаря и сына его, что прежде жили душа в душу. Околдовала обоих, оплела тенетами своими – тайными, любовными – да развела в разные стороны, врагам на поживу. Была это неправда – все, до последнего слова, – но кому об этом расскажешь? Припомнилась тут Симонис отчего-то гадалка из Студиона, а отчего припомнилась – разве разберешь? Терпи, королева.
Жива была еще у ромеев надежда, что не признают сей брак противоестественный в Констинтинополе – ни светские властители, ни духовные. Посему, едва отгремел пир свадебный, отправился в тайне великой к базилевсу Андронику гонец с письмом, в коем со всем усердием и в ужасающих подробностях изложили посланники прегрешения господаря сербского – и то, как нарушил тот священный договор, и то, как умыкнул жену себе, и то, как супротив воли Господней растлил дитя невинное. Изложено все это было в надежде, что скажет повелитель империи веское слово свое, расстроит брак да вернет назад все посольство вместе с дочерью. А тайно гонца слали затем, что боялись гнева господарева. Но не вчера родился Милутин на свет Божий, знал наперед он все премудрости византийские, хотя препятствий ромеям и не чинил. Как только улеглась пыль из-под копыт гонца ромейского, из тех же ворот выехал гонец короля сербов. Так и помчались гонцы наперегонки до Константинополя.
Страшно разгневался базилевс, как прознал обо всем. Не было таких слов бранных, коими не называл бы он короля сербского. Не было таких кар господних, коих бы он не призывал на его голову. Женская же половина дворцов влахернских погрузилась в траур – заживо хоронили они милое их сердцу дитя, доставшееся стервятнику на поживу. В годах таких о вечном пора уж думать, а старому греховоднику все нипочем, подавай ему агнца на растерзание. Кинул базилевс в сердцах письмо короля сербского на пол, истоптал его ногами. Но опосля помыслил, что неразумно властителю империи давать ослепить себя гневу, – не поленился, нагнулся за письмом, надломил печать с крестом сербским да прочел.
Писал ему король Милутин, аки родному, как ни в чем не бывало. Радовался, что отныне как братья они стали и что теперь славным родам Палеологов и Неманичей рука об руку строить царствие Христово на земле. А заодно сообщал господарь, что готов он во главе воинства своего выступить в поход супротив богумилов, богомерзких еретиков, отступников от веры, коих базилевс давно уже призывал одуматься, но кои, подстрекаемые злокозненным царем болгарским, плевали на увещевания базилевсовы с высокой колокольни. Давно уж хотел базилевс выжечь в империи заразу эту – а войско все никак не мог собрать. Призывал он государей христианских на дело богоугодное – а и те отчего-то не спешили, кто на засуху жаловался, кто на дожди. Так кому же, как не зятю новоиспеченному, оказать помощь семейству своему, постоять за веру отчую! Такоже сообщал господарь сербский между делом, что желает он в честь супруги молодой возвести в стране своей сорок задушбин – храмов да монастырей – по числу городов сербских, для чего не пожалеет он несметных сокровищ, взятых им в походах, а от базилевса же покорно просит помощи в деле сем многосложном – потребны ему искусность мастеров ромейских да отцы святые в нужном количестве, дабы вести народ к вере истинной.
Опустился на трон базилевс, выронил письмо из рук своих. О, как давно ждал он этого! Как давно ждали этого предки его! И вот – случилось оно в тот самый миг, когда совсем уже и надежду потеряли. Это болгары всегда на Орду оглядывались, а братец Милутинов Драгутин мало что в рот Папе не смотрел, веры им не было никогда, но Милутин избрал иное. Связывали себя сербы навеки с Византией и с верой истинной. Да так связывали, что никак потом не развяжешь. И нужны они были нынче империи – ох как нужны! Нужна была сила их и мощь, пусть и варварская, но принявшая самую суть веры в сердце свое. Нужно было и золото их, и клинки, и зерно. Нужна была свежая кровь. Разумел базилевс, что не все так просто, что и сам король сербский нуждается в союзниках, а пуще их ищет он опору внутри народа своего, на которую можно было бы уповать в суровую годину бедствий. И по всему было видно, что оба они обрели наконец искомое.