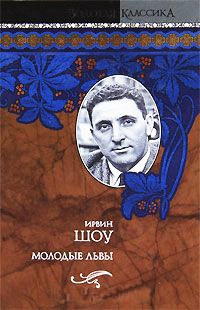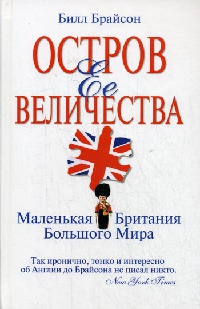Книга Богач и его актер - Денис Драгунский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Преувеличены слухи о моем богатстве, что бы там ни говорил этот завидущий Либкин, – рассказывал режиссер, расхаживая по хрустящей гравийной тропинке у воды. – Речь идет, я полагаю, о коллекциях антиквариата, а вовсе не о моих гонорарах и тем более не о моих фильмах.
– Да, разумеется. Либкин ведь тоже коллекционер.
– Он коллекционирует авангард, – поднял палец режиссер. – Что он понимает в старых стилях? И в кино тоже, кстати, ни черта не понимает.
– На мой взгляд, – сказал Дирк, – тут имеет место естественная конкуренция, что ли, не знаю, как сказать, чтобы не было обидно.
– Зависть, зависть, – припечатал режиссер. – Причем зависть в самом чистом, я бы сказал, психологически рафинированном виде. Люди обычно завидуют чему-то другому. Не тому, что похоже. Проще говоря, богатые завидуют знаменитым, знаменитые завидуют красивым, красивые завидуют талантливым, ну и так далее. Когда богач завидует богачу, а певец певцу – вот это не зависть, а конкуренция. Настоящая зависть – это когда какой-нибудь Херст или Хант завидует Полу Маккартни. Кажется, все могу купить за свое золото, а вот таланта не куплю. Чтобы целый стадион стонал, рыдал и аплодировал, когда я выхожу на сцену с гитарой, – этого не куплю. Поэтому и завидно. Аж кишки дерет. И по мелочи тоже, в небольшом масштабе. Коллекционер авангарда завидует коллекционеру антиквариата. Ну и наоборот.
– Значит, и вы завидуете Либкину?
– Да нет, не очень на самом-то деле, – пожал плечами режиссер. – Разве чуточку. Потому что, скажу вам откровенно, дорогой Ханс: у Либкина это любовь. Он любит своих Ротко, Раушенбергов и безвестных Джонни Джонсонов. А у меня, – вздохнул он, отвернувшись, – это вроде бизнеса… – и повторил еще раз: – Дорогой Ханс.
– Я не Ханс, я Дирк.
– Черт!.. А вы действительно хороший актер. Я бы вас, пожалуй, снял, если придется, если будет достойная вас роль. Хотя где ее нынче возьмешь, сценариев нет, сценарии дерьмо, все какая-то мелкота или пережевывание классики. Когда мы с вами играли эту прелестную сцену, где мы втроем вспоминаем, как Якоб-сен и Маунтвернер бодались из-за финансирования моего фильма, не знаю, как Джейсон, но я на двести процентов верил и чувствовал, что я разговариваю с Хансом, с теперешним Хансом, да, который вспоминает, как тогда он слал смешные телеграммы Джейсону и заставлял меня ползать перед Джейсоном на коленях, чтобы тот уступил процент в доле от проката. Клянусь вам, – режиссер остановился и крепко взял Дирка за руки выше локтей, – клянусь вам, вы – это он. И даже сейчас, несмотря на то, что я знаю, – он мотнул головой в сторону здания «Гранд-отеля», – что настоящий старик Якобсен, вполне вероятно, в эту секунду смотрит на нас с балкона своего номера, это не мешает мне верить в то, что вы – это он. Не знаю, кто тут гений – вы, который так играет, или Ханс, который так придумал. Но вы – это он. И я перед вами проговорился. Перед вами, перед Хансом. А не перед вами, перед Дирком. И поэтому я могу вам все рассказать. Ведь Дирка нет, есть только Ханс.
«О, боже, – подумал Дирк. – Неужели меня правда нет? Ну хоть послушаем».
– Это просто бизнес, – грустно сказал режиссер, – и не сам я его придумал. Любой предмет искусства, авангард это или антиквариат, сначала стоит дешево, а потом дорого. Это закон.
– Даже Рембрандт? – спросил Дирк.
– Представьте себе. Говорят, Рембрандт брал большие деньги за свои картины. Он был одним из самых дорогих художников своего века. Но все равно эти деньги совершенно несопоставимы с теми суммами, которые за него платят сейчас, и вам это прекрасно известно. Даже если рассчитывать по покупательной способности денег тогда и сейчас. Вы понимаете, о чем я?
– Примерно да.
– Вот и отлично. Какая-нибудь драгоценная этажерочка изготовления мебельного мастера при дворе Людовика XIV, за которую на крупном аукционе дадут сумасшедшую сумму, сто тысяч фунтов, сначала была всего лишь шкафчиком в кладовке у какой-то старушки. Особенно если речь идет о нашей стране, о Советском Союзе. Так вот, все время хожу кругами, не зная, с чего начать, дорогой Ханс, вы уж простите, что я к вам так обращаюсь.
– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал Дирк.
– Все это придумал мой директор картины, – продолжал режиссер. – Директор картины – это такая должность, вроде как здесь исполнительный продюсер. Мы снимали фильм в Ленинграде. Что-то из пушкинской эпохи. Знаете такой город – Ленинград?
– Ханс может не знать, а уж я, немец Дирк фон Зандов, прекрасно знаю. Только давайте не будем углубляться в эту тяжелую для нас обоих тему.
– Отлично, не будем. Директор дал объявление в газете «Вечерний Ленинград», что для съемок картины на такую-то тему про Петербург пушкинской поры, про декабристов и все такое… Вы, наверное, не знаете, кто такие декабристы, ну и ладно. Это в начале девятнадцатого века была такая попытка путча, попытка военного переворота. В СССР их традиционно считают благородными революционерами. В общем, в объявлении говорилось, что для этого фильма нужны предметы быта той поры. Боже мой, что началось! Какие-то старички и старушки понесли нам такое, что мы даже не предполагали, что в Ленинграде это могло сохраниться, причем в частных руках, да еще в середине шестидесятых годов – после войны, после блокады. Вы знаете, что такое блокада, господин фон Зандов?
– Знаю! – едва не крикнул Дирк.
– Ну вот и отлично, – успокоил его режиссер. – Нам несли и несли. Шкатулки и графины, стулья и кресла, давали нам адреса, где можно посмотреть на целые гостиные гарнитуры, зеркала, туалетные столики, бесконечные комодики, шкафчики, шифоньеры и дрессуары, бюро с откидными крышками и так далее, и так далее, и так далее. Ну что я вам буду перечислять! Попадались вещи музейного качества. Мы скоро заполнили всю квартиру, которую директор картины снял специально для этой цели. Затем пришлось арендовать небольшой склад в помещении киностудии, а нам все несли и несли. Сначала мы платили деньги. Небольшие, сколько могли. У нас был выделен на это небольшой бюджет. Вскоре бюджет кончился. Директор и я платили из кармана, платили, хочу я вам сказать, сущие копейки – десять рублей, двадцать, тридцать рублей. За шкафчик восемнадцатого века с великолепными фарфоровыми накладками и золоченой бронзой платили тридцатку. Это просто смешно. Предмет музейного качества – за тридцать рублей. Хотя для какой-нибудь старушки это была серьезная сумма. Но потом деньги кончились и у нас, а люди все продолжали нести. Мы говорили: «Хватит, уносите! Простите, у нас больше нет денег!» А эти старички и особенно старушки отвечали: «Берите так. Мы будем просто счастливы, если это поможет вам снять хороший фильм. Мы будем счастливы, если наш шкафчик или наше трюмо мелькнет на экране и в нем отразится Пушкин». Вы знаете, кто такой Пушкин?
– Знаю! – рассердился Дирк. – А потом директор умер?
– Ханс бы никогда не задал такой вопрос. Вы действительно не Ханс Якобсен, – оскорбленно сказал режиссер.
– Я и не претендую. Это все ваши фантазии. Я Дирк фон Зандов, немецкий актер. Я очень виноват перед вами, что мы напали на Советский Союз и устроили бесчеловечную осаду Ленинграда. Но я, ей-богу, ни капельки не виноват в том, что ваш директор, – и тут он довольно откровенно подмигнул, – вдруг этак неожиданно скончался.