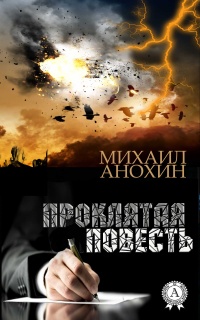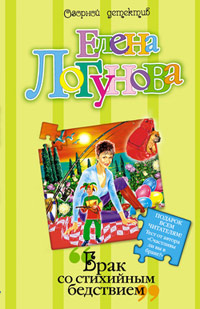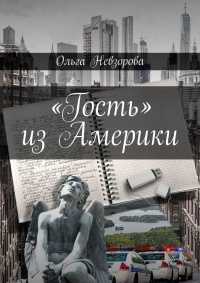Книга Сварить медведя - Микаель Ниеми
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
35
Тяжелое зрелище – похороны Юлины Элиасдоттер. Почти все сельчане соглашались с исправником Браге: несчастная повесилась. Нападение насильника в ночь после танцев так потрясло девушку, что она не нашла в себе сил жить. Поползли слухи, что она умерла не одна, а унесла с собой и жизнь невинного младенца, зачатого в ту ночь злодеем. Еще как бы и детоубийца. Прямая дорога в геенну огненную. Подобные истории то и дело рассказывали за столом – в первую очередь для юных любительниц танцев. Дескать, одно вытекает из другого. Поплясала – и в петлю.
И чем чаще пересказывали историю, тем больше она обрастала леденящими душу подробностями. Оказывается, Юлина не только повесилась, но и приняла перед этим яд. Якобы для уверенности, что нерожденное дитя тоже наверняка погибнет. И собачку отравила. Трупик собачки сожгли – не выбрасывать же его в лес с такой начинкой в животе! А дитя-то, дитя – ни в чем не повинное дитя тоже обречено вечно скитаться по мрачным катакомбам преисподней. Мы же сами иной раз слышим эти дикие вопли по вечерам – как же такой душе попасть в рай без крещения? Вот так и бывает с детьми шлюх, не только сами попадают в ад, но и отродье свое за собой тянут.
Прост изо всех сил старался утихомирить возмущенных прихожан, но без особого успеха – ведь только он и я знали, что Юлина даже не думала кончать с собой, что она жертва хладнокровного и расчетливого убийцы. В своей проповеди он пытался утешить родственников, говорил про окружающие нас темные силы, как нам нужна помощь Господа, чтобы смочь им противостоять.
Но паства слушала его с нарастающим раздражением. Кто там в гробу? Самоубийца, детоубийца, нераскаявшаяся грешница.
Исправник Браге и Михельссон перешептывались, склонив друг к другу головы. Элиас и Кристина сидели совершенно неподвижно, как два черных пня, не поворачивая головы и стараясь не замечать косых взглядов. Ни он ни она не плакали. Но я ясно видел, как растет в них никому не слышный крик, и крик этот вот-вот, как кинжал, рассечет столбняк горя и вырвется наружу, взорвав мертвую, давящую тишину.
Наверняка они в тысячный раз спрашивали себя: может, неправильно воспитывали дочь? Может, не надо было отпускать ее на танцы в тот проклятый вечер? И была бы жива…
Я повторял слова молитв, но язык мой лежал во рту, как дохлая рыба на дне. Губы старались сложиться в буквы – а, и, е, о, у, но в душе я не слышал слов, мной овладела тоскливая немота. Глянул на переднюю скамью и встретился взглядом с секретарем Михельссоном. Тот написал что-то на клочке бумаги и протянул исправнику. Исправник прочитал, покосился на меня и что-то сказал. Я почему-то был уверен – они говорят обо мне.
Внезапно по церкви прошел леденящий ветерок. Непонятно откуда – двери и окна закрыты. Я посмотрел на проста. Он наверняка тоже заметил, остановился посреди фразы и беспокойно огляделся. На секунду, не больше. Прокашлялся и продолжил с того места, где остановился, но уже не с тем вдохновением. Как будто прислушивался к чему-то и это его отвлекало. Мне почудилось движение у стен – там шевелились какие-то ничего хорошего не предвещающие тени. И прост, точно подслушав мои мысли, схватил с алтаря деревянное распятие и прижал к губам, что-то при этом шепча.
И в ту же секунду словно стон пронесся по церкви:
– Ооолумохху…
И вторым голосом:
– Herra Jeesuksen Kristuksen, а-ай-йаа…
Внезапно вырос лес черных рукавов, пальцы царапали воздух, будто отскребали что-то.
«О-о-охху» – по-совиному ухнул первый голос, а какая-то пожилая тетушка начала раскачиваться на скамейке, взад-вперед, взад-вперед, а за ней и остальные. Через минуту вся церковь выглядела как огромная лодка, и сотня гребцов никак не могла сдвинуть ее с места.
Прост все сильнее сжимал распятие, он зажмурился, шептал что-то и дышал все чаще, но его, кажется, не коснулось общее безумие. Женская половина выла и колыхалась, завыли и несколько пожилых дядек на мужской половине. Они стонали, мотали головами и мяли шапки на коленях, будто хотели их разорвать на части. Горько заплакал какой-то малыш. Я нашел его глазами – бедняжка закрыл голову руками, будто ожидал удара. По обе стороны от прохода черные фигуры выглядели, как деревья, раскачивающиеся под ударами штормового ветра, дунет чуть посильней – и упадут. Прост повернул распятие к прихожанам. Я подумал, что вся церковь теперь уже похожа не на лодку, а на палубу тонущего корабля, а прост – на капитана, пытающегося его спасти. Среди воя, воплей и выкриков послышался протяжный скрип… оказывается, вылетел гвоздь, удерживающий доску с номерами сегодняшних псалмов, и на пол со звоном просыпался золотой дождь латунных цифр. Люди толпились уже по всему проходу, кто-то отталкивал друг друга, кто-то обнимался. Я присмотрелся. На полу рядом с купелью рядком лежали три цифры: 666. В спину мне дышал какой-то толстый дядька, пахнущий прокисшим жиром, серой и еще чем-то, похожим на ту простоквашу, которой меня кормили на сенокосе. Другой схватил меня под локоть с такой силой, будто мы сидели на телеге, запряженной взбесившимися лошадьми. Я вырвался и глянул – плачущий косоглазый мужик с соплями под носом. Свободной рукой он загребал воздух, словно пытался плыть, и, рыдая, повторял:
– Äiti, äiti… Мама… мама…
Я высвободил локоть и уперся обеими руками в спинку скамьи: почему-то показалось, что сейчас упаду.
Прост по-прежнему стоял неподвижно с распятием в руках, но его неподвижность только распаляла паству. Присутствие Святого Духа ощущалось как нечто само собой разумеющееся. Он был в каждом углу храма, мне даже казалось, что я вижу его – облачко тумана, дымок от костра. По церкви распространился явственный запах свежеиспеченного хлеба. Запах Прощения.
Плач перешел в крик, в котором уже не различить отдельных слов, он нарастал, как огонь в печи, куда подбросили сухой хворост. Рядом со мной пожилой дядька начал кряхтеть и тужиться, как в отхожем месте. А может, это были роды: он пытался родить что-то, вернее, не родить, а удержать нерожденным, но это что-то было чересчур велико для него, оно стремилось наружу и грозило взорвать его изнутри.
Я держался за спинку так крепко, что побелели суставы. Михельссон и Браге почему-то не сводили с меня глаз. Они не шевелились, были неподвижны, как камни в штормящем море. Я попытался посмотреть им в глаза, но не смог себя заставить, горло перехватил ком паники. Внезапно заболела голова, тяжелые, пульсирующие удары, словно кто-то колотил меня по темени кулаком, поленом, пивной кружкой – всем, что попалось под руку. Бум, бум… как непрекращающиеся удары грома в грозу… гр-р-р-р-бум, бум…
36
Я спрятался в кустах. Час, другой. Если кто-то проходит, ложусь и вжимаюсь в землю, пока шаги не стихнут. Комары как с цепи сорвались. Мало того: я устроился поперек муравьиной тропы, и эти крошечные солдатики ползут по лодыжкам, да еще и кусаются, возмущенные неожиданно возникшим на протоптанном маршруте препятствием.
Но скоро я ее увижу. Почему она не идет? Ей пора на скотный двор, она в это время всегда там. Наверное, что-то случилось. Я близок к тому, чтобы покинуть мой наблюдательный пункт, встаю… Но вдруг она все же появится? Я держу ее за талию, мы танцуем кадриль. При каждом прикосновении по коже рук бегут мурашки наслаждения. Ткань ее сарафана, ее запястье, тонкие, изящные пальцы.