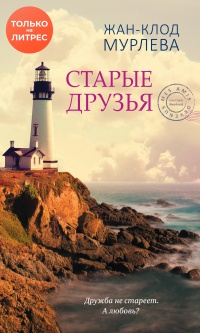Книга Гномы к нам на помощь не придут - Сара Шило
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы сидели обедали, а мне кусок в горло не лез. И вся кровь к голове прилила. Хотелось сбежать домой и больше никогда в ясли не возвращаться. Да только как же я эти ясли брошу? Кто же меня тогда на работу возьмет, если я посреди года уйду? Кто на меня посмотрит, если Рики про меня языком трепать начнет? Господи, как я тогда радовалась, что она меня на работу устроила, как радовалась! Чуть руки ей не целовала. И почему, когда человека в тюрьму сажают, он всегда «спасибо» говорит?
3
Луна смотрит на Симону, лежащую в воротах, и что же она там видит? А видит она, что Симона — это вратарь, который прыгнул в правый угол ворот, чтобы схватить мяч. А мяч возьми — да и в левый угол залети.
Через год после того, как ушел мой Масуд, вся его родня меня бросила. Не приходят ко мне больше братья его, сердятся на меня. Как будто это я виновата, что у них дело с фалафелем не пошло. Не понимаю я этого, не понимаю. Ну скажите, при чем тут я? Я, что ли, решаю, хорошо пойдут фалафельные дела или нет? Я, что ли, должна людям говорить, чтоб они фалафель у них покупали? Ну, допустим, я даже в чем и виновата. Допустим. Но Масуд-то? Он-то им что сделал? Неужели они даже на могилку к нему прийти не могут в годовщину его смерти? Стыда у них нет, вот что я вам скажу. Только из-за того, что все свои деньги в фалафельную вложили, а дело у них так и не пошло, только из-за этого меня одну с детишками и бросили.
Вот ихняя мать, она не такая, как они. Она не считает, что в жизни все только деньги решают. Когда Масуд был жив, она все время подозревала, что ему со мной плохо, и смотрела на меня косо. А как умер, сразу ко мне переменилась. Увидит меня на рынке — и давай обнимать-целовать. Приедет ко мне на машине с невестками своими — Рахелью, Яфой и Шошаной, — увидит, что те отвернулись, и деньги мне в руку сует. Я-то обычно не беру, обратно ей в сумку кладу. А она плакать начинает, про детей спрашивает. Как, мол, они там, здоровы ли? Не забыла даже, как их зовут. По именам всех называет, одного за другим. Даже про младшеньких спрашивает. А ведь она их в последний раз видела, когда они еще в колясочке лежали. «Держись, — говорит, — Симона, будь сильная, здоровая». И все по-мароккански со мной разговаривать норовит[6].
Она и на могилку к нему ходит, я знаю. Люди вон, как с кладбища придут, рассказывают: видели, мол, ее там, приходила.
Да что же я им такого сделала? За что они меня все бросили? Кто у меня тут в поселке и есть-то, кроме родни Масуда? Да никого у меня тут больше нету. Я ведь к нему сюда совсем одна приехала, из Ашдода. Моя мама, она еще в Марокко померла. А отец, да смилостивится над ним Аллах, погиб в автомобильной аварии шестнадцать лет назад. Умер прямо на месте. Ну а четверо моих братьев, они все там же, в Ашдоде. Как каторжные работают, не разгибаются.
Ну и кто же теперь у нас лучший друг Симоны? А дурной глаз, вот кто. Только он один у нее и есть. С тех пор, как его люди на бар мицву[7]Коби привели, так он от меня и не уходит. Через два дня после бар мицвы взял да и Масуда у меня забрал. А с ним вместе и корону с моей головы. Ну а как корону-то он у меня забрал, так и головушка моя наземь покатилась.
И зачем только люди на нашу бар мицву дурной глаз привели, не понимаю. Ну чего им, скажите, там не хватало? Мы же их там как королей принимали. Они ведь о таком и мечтать не могли. Да и как, скажите, они могут о таком мечтать? Если ты никогда ничего такого в жизни не видывал, то и представить себе этого не сможешь.
Четыре автобуса я для них заказала. Один автобус родню Масуда и ихних друзей привез, а три других — гостей из нашего поселка. Каждый автобус полный круг сделал, всех до одного подобрал. Каждые два метра останавливался. Чтобы никому, не дай Бог, пешком идти не пришлось, чтобы никто в дороге не устал. И ведь это вам не простые автобусы были. Туристические! Чистые, с приятным запахом в салоне. Дворцы, а не автобусы. Люди из них потом и вылезать-то не хотели. Для них там такое угощение было, какое только в аэропланах подают. И напитки там тебе разные, и орехи, и фрукты, и шоколад самый дорогой. Ну все чего только душенька не пожелает. И музыка им там всю дорогу играла. И анекдоты они друг другу в микрофон рассказывали. Всю дорогу пили да орехи грызли, а как с автобуса слезли — в такой красивый зал торжеств попали, какого в жизни своей не видывали.
Как входишь — перед тобой сразу лестница мраморная. По бокам от нее — два фонтана с водой. Перед входом в зал две девушки стоят, каждому красный цветок на одежду прикрепляют. А в зале, куда ни глянь, сплошные зеркала. Чтобы все могли на себя глядеть и запоминать, какие они в тот день красивые были. И вот смотрятся люди в эти зеркала, смотрятся и глядь: причесываться начинают, улыбаться, разговаривать друг с дружкою вежливо так. Рюмку подымут — чтобы лехаим[8]сказать, — а сами в зеркало подглядывают. Чтобы увидеть, как они рюмку подымают. Все время в зеркала так и косятся, так и косятся. И прихорашиваются все время. Чтобы выглядеть красиво. Если там, к примеру, какой-нибудь крале чего не понравилось и она морду кривить начинает — ее недовольная морда на нее сразу из зеркала глядит. А если она от одного зеркала отвернется, то сразу же в другом зеркале себя видит. Понимает она в конце концов, что никуда ей от зеркал не убежать, и меняет недовольное лицо на довольное.
А еда на бар мицве у Коби какая была! Какая еда! Самая лучшая! Не курица вам какая-нибудь — мясо одно. Да еще с четырьмя видами гарнира. Плюс десять сортов салата. По пятьдесят лир мы тогда заплатили на человека. В смысле, по тогдашним деньгам. Ну кто еще, скажите, шесть лет назад по пятьдесят лир за человека платил?
А деньги ихние, которые они нам надарили? Да они нам даже четверти расходов не покрыли. Гости-то, когда они деньги по конвертам рассовывали, думали небось, что кладут достаточно, чтобы нам расходы покрыть. Куда там! Они просто такого размаха никогда в своей жизни не видывали. Никто из них даже не подозревал, во сколько нам это обошлось.
Когда я ту бар мицву вспоминаю — как они смеялись там все, танцевали, — ну никак не могу я в толк взять, зачем они с собой еще и дурной глаз привели. Ведь каждый мужик в тот вечер королем себя чувствовал, а каждая баба — королевой красоты. Самый лучший оркестр я для них позвала, не поскупилась. С Йом Кипура и до самого Лаг ба-омера[9]только бар мицвой этой и занималась. Зал искала, приглашения рассылала, наряды покупала, с фотографом договаривалась, музыку устраивала. По разным местам ходила, присматривалась, и каждый раз мне казалось — ну все, нашла, что искала. Но сразу «да» никогда никому не говорила. «Мне, — говорю, — надо с мужем посоветоваться», — и ухожу. Приду домой — и всю ночь думаю. Представляю себе, как в этом зале бар мицва пройдет. Коби представляю, родню, гостей, зажигание свечей, танцы. Ну и себя, ясное дело. Как я там смотреться буду. И если мне казалось, что в этом зале я, как алмаз, сверкать не буду, то наутро я шла новый зал искать, получше. Или платье пороскошнее. Или цветы покрасивше. И так каждую мелочь. Искала, спрашивала, смотрела — и, в конце концов, выбирала только самое-самое.