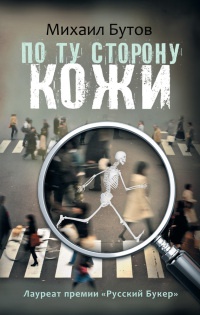Книга Свобода - Михаил Бутов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он шел на поправку, но тут неожиданно свалился я — с жесточайшим гриппом. Так, лежа в разных углах комнаты и чем возможно помогая друг другу, мы пережили августовское танковое нашествие, о ходе которого никак не могли составить ясного представления из противоречивых радиосводок.
Хозяин оклемался первым. Он похудел и осунулся — еще отчетливее обозначилось в лице напряжение мысли и души. Приобрел прежде нехарактерные для него несколько суматошную оживленность и любопытство к простым вещам. Увлеченно чинил расшатанные стулья или начищал обувь, рассуждая вслух о том, что всякий труд способен приносить удовлетворение. Я не принимал это за чистую монету, но догадывался: болезнь, беспомощность напугали его, и он позволил себе передышку, не торопится с решением, что и как будет делать дальше. Потом в его разговоры все чаще стала возвращаться гляциология — сиречь наука о льдах, область его первоначальных ученых изысканий, в театральном ажиотаже основательно подзаброшенных. Выходило, что, если не сидеть сложа руки и не терять времени даром, она предоставляет редкие возможности поменять обстановку и набраться освежающих впечатлений. В считанные дни он возобновил прежние связи, заставил кого-то вспомнить о прошлых услугах, нажать теперь в благодарность на нужные рычаги — и успел попасть в списки отбывающих в Антарктиду с летней партией. Ему сообщили об этом в пятницу, а утром в воскресенье я провожал его на поезд в Новороссийск, где уже дожидался теплоход под парами. Он говорил, что теперь чувствует себя прекрасно и мы правильно поступали, не вызывая врачей, — иначе как пить дать его забраковала бы медкомиссия. Такси вгрызалось в шахматную пробку на перекрестке Садового и Пресни. Мы опаздывали. Он передал мне ключи.
— Лучше совсем живи. А то краны текут — мало ли что. Я пробовал перекрыть, но общий вентиль тоже срывает. Хоть изредка заезжай.
Но лучше бы посторожил. Там и до церквы твоей близко…
Я подтвердил: да, рядом, только мост пересечь. Но уже к следующим выходным это не имело никакого значения.
Управившись с покупками, я настроился прежде всего как следует отдохнуть: ежедневная толкотня на рынке и в магазинах порядком меня вымотала. Но едва лишь затащил в квартиру последнее и перевел дух — в дверь позвонили. Я был совершенно уверен, что еще никому не известно, где ныне искать меня, да и впредь не собирался оповещать об этом. А хозяин жил замкнуто и сосредоточенно, к нему не бывало на моей памяти случайных посетителей. Значит — сосед, некому больше. Напрасно я нахваливал тогда его «Оджалеши»: чем не повод считать, что мы уже приятели? Теперь станет набиваться в гости по вечерам — от жены или так, со скуки… Чертыхаясь и на ходу соображая, как бы покончить с этим раз и навсегда, я поплелся открывать. За дверью стоял человек с большим пластмассовым чемоданом-дипломатом в руке. Опустив чемодан на пол, он сверился с записной книжкой и по фамилии спросил хозяина. Я сказал: нету, уехал и вернется только на будущий год. Человек, однако, не уходил и настаивал, что о его приезде должны были предупредить: по телефону и еще, для верности, письмом. Был он молод, круглоголов, плосок лицом и обширен в плечах. Я признался, что почту не вынимаю и не беру трубку — мне не телефонируют.
— Ага, — сказал он, — а я пятерку прозвонил с вокзала. У вас барыги пятиалтынный по рублю продают. То дети какие-то отвечают, то вообще никого, гудки.
Я попытался соврать, что квартиру нашел по объявлению и не в курсе никаких дел. Но вовремя разъяснилось, что это мать хозяина, не ведая о путешествии сына (наспех заполненная им открытка, которую я сам опускал на вокзале в ящик, еще не дошла, видно, или где-то затерялась), по-семейному направила из города Николаева второстепенного родственника.
Заворачивать родственников права я, пожалуй, не имел — так что отступил и позволил ему пройти. И все же мне казалось: родство родством, но ничто не сделает убедительной связь между идиллическими пожилыми родителями моего друга в крытом шифером домике с садом на тихой улице далекого провинциального Николаева и неожиданным плотным гостем, сразу населившим стеклянную полочку в ванной гигиеническим набором: лосьон, одеколон, дезодорант и пена для бритья. Я испытывал неловкость и не представлял, о чем говорить с ним, но он рассказывал, не дожидаясь моих вопросов. Что в Москву приехал выяснить условия приема на подготовительное отделение автомобильного вуза — так по крайней мере считается у него дома. Он-то уже все знает: иногородних на подготовительное не берут, тем более с Украины, которая теперь отделилась, — да и не собирается на самом деле никуда поступать, баранка и без диплома отлично его прокормит.
Но важно, чтобы отец с матерью видели — ездил. А его в столице интересуют две вещи: пиво (в Николаеве, по причине дрянной воды, малопривлекательное) и бабы, привлекательные всегда и везде. Мы условились, что ночевать он будет на кухне, поскольку во сне свистит носом, знает за собой; и я достал для него с антресолей продавленную, но вполне еще сносную раскладушку.
Небеса повернулись ко мне если не лицом, то вполоборота: с амурами ему решительно не везло. Похоже, хохляцкие словечки, которыми он привык утрировать речь, не шли у столичных барышень за хохму, но прямо уподобляли его анекдотическим персонажам.
Зато план по пиву выполнялся на все двести. Не знаю, где он проводил время с утра — вряд ли в Третьяковской галерее, — но неизменно к исходу дня у стены выстраивались шеренги бутылок с «Ячменным колосом» или дорогими «Хамовниками». Это разливанное море, чтобы не штормило, он напоследок обязательно лакировал еще водочкой. Сначала я отказывался пить. Но обнаружил за ним такую особенность: выпивая один, он мог разговаривать долго и на самые разнообразные темы, если же я присоединялся — только изредка ронял фразы насчет московского выпендрежа, а в промежутках подпирал лоб ладонью и погружался в какие-то свои медленные мысли, как будто сам процесс вместил теперь в себя все, что может быть сказано. Было из чего выбирать. И неделя свернулась в клубочек, закатилась то ли под холодильник, то ли за ножку стула вместе с выпавшими из нетвердых пальцев окурками, тут и там прижегшими линолеум.
Уезжал он не домой, а в Смоленск, к зазнобе, которую нашел в армии по переписке и давно уже думал обневестить, но она не соглашалась переселяться к нему на юг. Поезд с близкого Белорусского отправлялся за полночь, и он был доволен, что посидеть на дорогу можно спокойно, без спешки. А чтобы прощальный вечер чем-то отличался от одинаковых предыдущих, принес вместо традиционных водки с пивом литровую бутыль семидесятиградусного американского рома из коммерческого магазина. Я усомнился: взойдем ли? Он сказал, что заберет с собой, если мы не допьем. Закусывали копченой мойвой из картонной коробочки. Я был на дружеской ноге с чистым спиртом, но никогда еще не встречал настолько крепкого рома и не мог предвидеть, каких каверз следует от него ожидать. Помню, как гость стучал мне в плечо кулаком и убеждал если что — зла не держать. Но уходил он уже без меня.
К немалому своему изумлению, я очнулся под одеялом и даже на простыне — хотя и в более счастливые дни не всегда ее под себя подкладывал. Открыл глаза, но лежал неподвижно, словно мертвый, глядя в светлеющий потолок, отслеживая, как поднимаются по пищеводу огненные шары. Язык мой отяжелел и набух, и гортань пересохла, как мангышлакский солончак; воздух на вдохе обжигал бронхи, а шерстяные иглы одеяла — кожу. Переплетенные нити простыни врезались мне в спину. Я верил, что непременно ослепну, если зажечь верхний свет, хотя бы одну лампу из трех. Наверное, я был серьезно отравлен: среда окрысилась на меня чересчур даже для тяжелого похмелья. Более инородным мог бы ощущать себя разве что гуманоид, выброшенный сюда из летающей тарелки за неуживчивость и систематическое противостояние коллективу. Мойва тоже оказалась с подвохом — мне чудилось, что не только я сам, но и подушка, белье, стены — все насквозь напиталось и разит прогорклым рыбьим жиром. Наконец я собрался с силами, повернул голову и кое-как сообразил, что лежу не в комнате, а на раскладушке в кухне. Теперь я различал железный бок чайника на плите и надеялся, что найду там, если хватит воли подняться, немного кипяченой воды смочить рот: знал, что от глотка сырой в голове сразу разорвется граната. Сосчитав до трех, я совершил попытку сесть — и полотно раскладушки с треском лопнуло по краю, по всей длине отошло от проволочного каркаса.