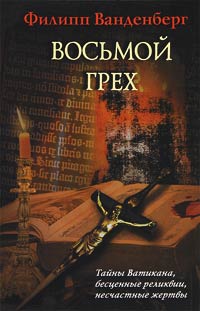Книга Восьмой круг. Златовласка. Лед - Эд Макбейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Тогда прими аспирин и не устраивай из этого спектакля. — Обратил ложку в сторону Мюррея. — О чем я говорил?
— Вы спросили меня, знаю ли я что-нибудь о вине.
— Так вот, я хотел рассказать тебе о странной истории, которая произошла со мной, когда я учился пить вино. Настоящее французское вино, понимаешь? Импортное. Я начал интересоваться, что оно такое, так как иногда видел в одном превосходном ресторане, что клиенты жадно пьют его, а это заведение и эти люди обладали высоким классом.
И что за мысль приходит мне однажды в Майами, когда у меня полно свободного времени? Я должен выяснить, что это за штука — вино. Честно говоря, когда я пробовал его первые несколько раз, то думал, что пить его нет смысла, потому что на вкус оно всегда казалось испорченным. Но потом я познакомился в отеле с одним человеком — знаешь, что такое сомелье?
— Знаю, — ответил Мюррей.
Ответ не остановил Уайкоффа.
— Это человек с большой цепью на шее, отвечающий за все вино в заведении, — объяснил он. — И я нанял этого сомелье сесть вместе со мной и объяснять, что есть что. И из всей его тарабарщины я понял одно, что когда ты новичок, то начинаешь со сладкого вина вместо столового, но когда поумнеешь, оно будет слишком сладким, и тебе захочется все более и более сухого. Когда говорят о вине, его не называют кислым, понимаешь? Его называют сухим. Разумеется, если речь идет о хорошем вине, не о красном итальянском.
Уайкофф драматично подался вперед.
— И знаешь что? Все вышло, как он говорил. Я не лгу тебе, Керк. Я рассказываю тебе, что начал с вина «Шато д’Икем», оно очень сладкое, потом перешел к тому, что называется «грав», и кончил шабли — оно совершенно сухое и исключительно для знатоков! Сейчас, если поставить передо мной бутылку «Шато д’Икем» вместо столового, у меня это вызовет рвоту, для меня у него будет конфетный вкус.
И теперь, понимаешь, я могу сидеть за столом с людьми, которые, может быть, выросли на французском вине — знаешь этих чванливых типов, разодетых будто для оперы, — пить его вместе с ними и получать удовольствие, не притворяясь. Мне все равно, насколько прихотливы эти люди. Я могу подозвать сомелье, заказать настоящее вино и не выглядеть недотепой, которому здесь не место. И имей в виду, я вырос в доме, где пили из бутылки и ели руками. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду, говоря о настоящем классе внутри тебя и что нужно лишь немного поработать над этим?
— Понимаю, — ответил Мюррей.
Когда они наконец поднялись из-за стола, Уайкофф удивил его вопросом: «Керк, играешь в бридж?» — потому что бридж не казался игрой Уайкоффа. Потом Мюррей понял необоснованность своего удивления. Учитывая все, бридж должен был быть игрой Уайкоффа. Он обладал настоящим классом.
— Я бы предпочел поговорить о деле, — ответил Мюррей. Он не пытался скрыть нетерпения.
— Успеется, — ответил Уайкофф. Похлопал по пряжке брючного ремня. — Дело в том, понимаешь, что у меня небольшая язва, и врач строго требует не заниматься делами, пока переваривается еда. Да и все равно, скоро по телевизору начнется викторина «Вопрос на шестьдесят четыре тысячи долларов»[36], и если мы начнем разговор, то его придется тут же прекратить. Я ни за что не пропущу эту передачу. Думаю, до нее мы сможем сыграть парочку робберов, а после передачи поговорим о деле. Знаешь, Керк, я недавно начал играть в бридж и очень к нему пристрастился. Это единственная игра на свете, в которую можно играть без денег и все равно получать удовольствие.
Речь была трогательной, но, как оказалось, ставки составляли пять центов за очко — едва достаточно, как сказал Уайкофф, легко меняя позицию, чтобы сделать игру слегка интересной, — и поскольку Уайкофф и Дауд были партнерами и играли в почти сверхъестественном согласии, счет поднялся высоко. Когда мажордом вошел и объявил, что телевизор включен и ждет, Уайкофф подвел черту под таблицей очков и сообщил, что общая сумма составляет восемьдесят долларов с мелочью.
— Пусть будет ровно восемьдесят, — снисходительно сказал он Мюррею. — Вы с Моной заплатите мне. У нас с Митчем заключен договор, что когда мы играем партнерами, я беру все, если выигрываем, но должен выкладывать все, если проигрываем. У меня такой принцип. Неприятно думать, что моя оплошность может стоить кому-то денег.
— У меня тоже такой принцип, — сказал Мюррей, когда Мона открыла сумочку. — Не беспокойтесь, я заплачу за нас обоих.
Утешало его только открытие, что она не такая уж сонная. Мало того, что Мона хорошо играла в бридж, — когда он протянул ногу под стол, к ней прижалась ее нога, и они оба продолжали игру, сохраняя это теплое, стимулирующее соприкосновение. И все-таки, подумал Мюррей, почти за два доллара в минуту утешение это дорогое.
Теперь Мона посмотрела на него с чем-то похожим на удивление.
— Так, — сказала она с повышающейся интонацией, — да ведь вы молодчина?
Когда Уайкофф и Дауд пошли по коридору к телевизорной комнате, Мона задержалась, чтобы подкрасить губы, и Мюррей из вежливости задержался вместе с ней.
— Вы хорошо играете, — сказал он. — Жаль, что нам не везло.
— Ах это. — Она осмотрела свою работу в зеркальце маленькой пудреницы с драгоценными камнями. — Они постоянно жульничали. Не заметили?
— Нет.
— Я думала, могли заметить, потому что действуют они грубо. Знаете, то, как держат карты или объявляют масть — такие вот фокусы. Это не вина Митча. Джорджу это нравится, поэтому Митч просто его поддерживает.
— И Джордж всегда получает деньги за обоих. Должно быть, он хорошо нажился на вас.
— Нажился на мне? — Мона невыразительно посмотрела на него. — Оставьте. Неужели всерьез думаете, что мне стоило тридцать тысяч обставить эту берлогу?
Комната, где они смотрели телевикторину, представляла собой храм телевидения. Громадный телевизор был вделан в стену, все кресла были обращены к нему. В углу находился маленький бар, прислуживал там японец, теперь одетый в белую куртку. Единственным неуместным предметом была рождественская елка в конце комнаты — величественное дерево, сверкающее блестками и стеклянными украшениями.
— Двое племянников Джорджа приехали сюда с семьями на Рождество, — объяснил Дауд, увидев, что Мюррей уставился на елку. — Сколько у них детей? — спросил он Уайкоффа. — Вроде бы шестеро?
— Семеро, благослови их Бог, — с нежностью ответил Уайкофф. — Умнейшие на свете ребята, но прямо-таки дикие индейцы. Вот почему я поставил елку здесь, вместе с телевизором. По крайней мере, когда тут и елка, и телевизор, они какое-то время не вцепляются тебе в волосы.
Телевикторину смотрели с почтительностью, подобающей церковной церемонии. Никто не произносил ни слова, и в свете от экрана Мюррей видел, что Уайкофф сидит, раскрыв рот, лицо его выражает восторг и изумление, и он буквально обливается потом, переживая за каждого соперника в звуконепроницаемой кабине. Когда все было кончено, он утер лоб платком, как человек, испытавший глубокие чувства.