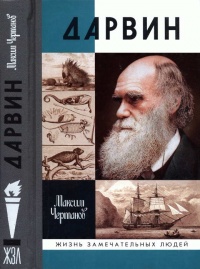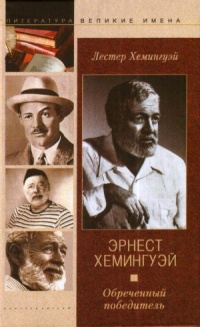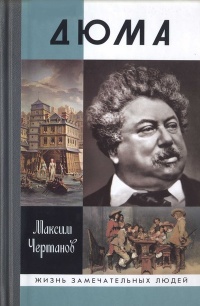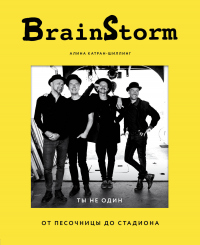Книга Хемингуэй - Максим Чертанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В Париже он провел два дня с Полиной, а 4 марта уехал в Шрунс. «Когда поезд замедлил ход у штабеля дров на станции и я снова увидел свою жену у самых путей, я подумал, что лучше мне было умереть, чем любить кого-то другого, кроме нее». Вдвоем они были до марта. Потом все изменилось: «Зима лавин была счастливой и невинной зимой детства по сравнению со следующей зимой, зимой кошмаров под личиной веселья, и сменившим ее убийственным летом. Это был год, когда туда явились богачи».
С этими нехорошими богачами, четой Мерфи, Хемингуэй познакомился через Фицджеральда еще до отъезда в Шрунс и настойчиво звал их в гости. Джеральд и Сара Мерфи, оба из богатых американских семейств, пара с тремя очаровательными детьми, обосновались в Париже в 1921 году. Джеральд служил летчиком в Первую мировую. В 1925-м ему было 37 лет, Саре — 42. Композитор Коул Портер и художник Фернан Леже ввели их в художественные круги. Их парижская квартира стала «салоном», вилла на Ривьере — пристанищем «богемы». Оба были не просто щедры, радушны и прекрасно образованны, но излучали обаяние невероятной силы; они вдохновляли Фицджеральда, когда тот писал о чете Дайверов, и фигурировали под разными именами в десятках текстов своих знаменитых современников. Стюарт называл их принцем и принцессой: «Они любили друг друга, они наслаждались собственным обществом, и они дарили радость жизни всем, кто имел счастье дружить с ними». Это счастье имели Джойс, Миро, Пикассо (Сара была одной из его любимых моделей), Брак, Стравинский, Беккет, Баланчин, Кокто, Дягилев, Наталия Гончарова, Айседора Дункан — проще перечислить тех, кто его не имел. Отзывались о них впоследствии по-разному: Фицджеральд считал, что они его сгубили, Пикассо любил их всегда. Джеральд Мерфи был художником, неизвестным при жизни, но в 1974 году названным специалистами «оригинальным»; Фернан Леже писал, что после прогулки с Джеральдом он начинал видеть все предметы по-новому, а Сара умела «из миски помидоров создать произведение искусства».
Хемингуэй произвел на Мерфи сильное впечатление. «Всеобъемлющая личность, психологически огромная и сильная, и он преувеличивал все и говорил так быстро и наглядно и хорошо, что вы обнаруживали, что во всем с ним согласны, — писал Джеральд. — Он умел придать своей жизни масштаб. Многие из нас рядом с ним казались мелочью». С Джеральдом, как и со всеми мужчинами, которые имели (или ему так казалось) перед ним какие-либо преимущества, Эрнест завел обычное соперничество в мужественности. Джеральд писал о том, как они катались на горных лыжах: «Я был хуже всех. Эрнест делал остановки каждые 20 метров, чтобы убедиться, что я в порядке. Внизу он спросил меня, было ли мне страшно. Я признался, что было. И он сказал, что увидел мое мужество. Я был по-детски польщен». (Одна из версий происхождения «достоинства под давлением» связана с этим эпизодом: если верить Джеральду, именно так Хемингуэй определил его поведение.) С Сарой Эрнест нежно дружил и, как многие считают, увлекся ею, хотя этому нет подтверждений: их переписка не выходит за рамки дружеской. Мерфи помогали его семье материально, хвалили его работы. «Ваши проклятые рассказы не дали мне спать всю ночь. Боже мой! Как Вы твердокаменно держите обещание в верности себе, которое каждый писатель дает, и потом почти каждый нарушает», — писал ему Джеральд. И все же это были очень дурные люди.
«Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит ради ее самой. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может, и для него как для писателя это опаснее, чем непривязанным съезжать на лыжах по леднику до того, как все трещины закроет толстый слой зимнего снега. Когда они говорили: „Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто не понимаете, что это такое“, — я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как о непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку, вместо того чтобы подумать: „Этим сукиным детям роман нравится — что же в нем плохо?“». Пикассо, правда, не считал, что если его картины нравятся Мерфи, то они плохи. Но это у всех по-своему.
С Мерфи приехал Дос Пассос, которому досталось от Хемингуэя еще пуще: «У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, которая разведывает им путь, — иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда вынюхивает податливых и чересчур вежливых… Этот человек всегда куда-то едет или откуда-то возвращается и нигде не задерживается надолго. Он появляется и исчезает в политике или в театре точно так же, как он появляется и исчезает в разных странах и в жизни людей, пока он молод. Его невозможно поймать, и богачи его не ловят. Его никто не ловит, а пойманными оказываются только те, кто доверится ему, и они гибнут. Он обладает незаменимой закалкой сукина сына и томится любовью к деньгам, которая долго остается безответной. Затем он сам становится богачом и передвигается вправо на ширину доллара с каждым добытым долларом. Эти богачи любили его и доверяли ему, потому что он был застенчив, забавен, неуловим, уже подвизался в своей области, а также потому, что он был рыбой-лоцманом с безошибочным чутьем. Рыба-лоцман дала им знать, что путь открыт, и сама тоже явилась, чтобы мы не встретили их, как чужих, и чтобы я не закапризничал. Ведь рыба-лоцман была тогда нашим другом».
Хемингуэй ругал «рыбу-лоцмана» и до «Праздника»: «Маркс, буржуа до мозга костей, живущий на содержании Энгельса, так же убедителен, как Дос Пассос, живущий на яхте богачей на Средиземноморье и обличающий капитализм». Когда и почему «рыба» перестала быть другом и в чем, собственно, провинились перед Хемингуэем «богачи», кроме того, что он брал у них деньги? Первого он в «Празднике» не объяснил, но объяснял в других текстах, и мы до этого еще дойдем. Второе прокомментировал туманно: «Те, чье счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоевывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мертвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы». Что значит эта «мертвая пустыня»? Мерфи виноваты, что Хемингуэй оставил Хедли ради Полины? Мерфи втянули его в развлечения, научили жить на содержании, «каждый день превращать в фиесту» в ущерб работе — вот это уже серьезно. Сказать «а ты бы взял да отказался» — легко. Отказаться — сумеет не каждый.
Весна в Шрунсе, несмотря на присутствие «богачей», прошла неплохо: «Я хорошо работал, мы уходили в дальние прогулки, и я думал, что мы неуязвимы». К концу марта он закончил (так ему казалось) «Фиесту», отослал в «Скрибнерс», Перкинс назвал роман «безукоризненным». Хемингуэй обдумывал новую книгу, то ли сборник рассказов, то ли роман, о работе репортером в Чикаго и Торонто. Съездил в Париж, встречался с Полиной, но так и не принял решения, забрал домой из Шрунса жену и ребенка. Полина, вероятно, нервничала: они с сестрой пригласили Хедли в автомобильную поездку в Рамбуйе, в дороге Хедли почувствовала неладное: Полина то разражалась хохотом, то мрачно умолкала, не отвечала на ее вопросы. Хедли спросила, в чем дело — Вирджиния ответила, что ее сестра «всегда такая» и что они обе «очень любят» обоих Хемингуэев. Когда женщины сражаются за мужчину, лучшее, что он может сделать, — уйти в работу. Эрнест написал рассказ «Альпийская идиллия» (Alpine Idyll), напоминающий жутью некоторые рассказы Мопассана. Это история о крестьянине, который из-за погоды не мог добраться до деревни, чтобы похоронить жену; наконец в дом пришел пастор и увидел мертвую.