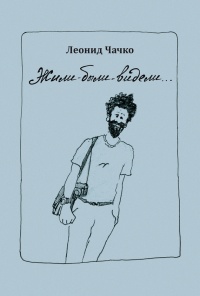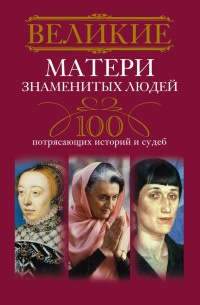Книга Цвет винограда. Юлия Оболенская, Константин Кандауров - Л. Алексеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В начале 1919 года вышло литографированное издание «Войны королей» в оформлении Оболенской и Кандаурова, сделанное в традициях лубочной книги, шутливой и озорной. Кстати, оборот книги украшает издательская марка В. А. Фаворского: в шестиугольник вписаны кукла-марионетка Петрушка и надпись: «Студия кукольного театра».
На премьеру, состоявшуюся в артистическом кабаре «Красный Петух» в первую октябрьскую годовщину, 7 ноября 1918 года, откликнулся А. Блок – стихи не похвалил, назвав «дамским рукоделием», но положительно отозвался о спектакле в целом. Тем не менее память о «первой коллективной работе» Кандауров отметил «блоковским» подарком – книгой «Двенадцать. Скифы», вышедшей в том же году в Петрограде.
Для кукольного театра художница сделала еще несколько переложений, в частности «Конька-Горбунка» и «Золотого петушка». Текст «Конька» есть в черновиках, а к «Петушку» сохранились еще и эскизы декораций. И кажется, что под забавной маской скрывалась все та же «лукавая муза», которая когда-то смешила гостей Коктебеля:
Однако студия «Петрушка» в качестве «советского учреждения» просуществовала недолго. Радость растаяла, испарилась. Да и прочие перспективы, увлекавшие новизной или размахом, были ненадежны и слишком часто оборачивались химерами. Ради пайка и хоть какого-то заработка оставалась поденщина: частные уроки, санитарные диаграммы, росписи вагонов, т. е. службы. А еще «каторжные работы», иначе – общественные нагрузки в виде чистки снега, вывоза навоза из дворов, рытья окопов да тяжелый быт, когда «руки дрожат от усталости, голова кружится»…
Времяворот, удержанный сетью букв, кажется неизбывным и неизжитым – так трагичны приходящие из прошлого письма.
«С искусством, как видно, везде дело обстоит очень скверно – художнику некогда быть самим с собою, некогда ему взглянуть на небо и горы, на леса, некогда отдаться любимому труду… в глаза только лезет всякий гнус жизни. Природы мы лишились, мы ее потеряли… нас выгнали из рая, из храма, каким когда-то была земля для нас, теперь и заглянуть туда нет возможности… Вот уже больше года, что я околачиваюсь в городе безвыходно, как раб, прикованный службой к проклятому советскому кораблю»[368]. В отличие от друзей, Богаевский, убежденный в той же истине: «искусство выше политики», сразу почувствовал непоправимую катастрофу, поняв, что «высшее» раздавлено и рай утрачен навсегда. А потому исторического интереса к событиям не испытывал, остро переживая свою несвободу художника, невозможность по-настоящему работать и необходимость «служить», отрабатывая те скудные блага, которые предоставляла местная власть: преподавал на феодосийских командных курсах, затем в Народной художественной студии, расписывал приспособленное для них здание, делал декорации для плохих постановок и т. д. Как член Общества охраны памятников искусства (ОХРИС), зарисовывал исторические памятники, занимался археологией, много заботился о спасении художественных ценностей, когда, национализированные или реквизированные, они перемещались из частных домов и собраний в помещения и хранилища, которым еще только предстояло стать музеями. Кандаурова, исполнявшего обязанности уполномоченного Наркомпроса по делам художественных выставок, подобного рода деятельность и связанная с ней организационная суета, порой бессмысленная и бестолковая, не отталкивали, поскольку не были чужды – соответствовали характеру, манили грядущими перспективами, размахом «культурной революции». Богаевского же все это тяготило, приводя в мрачное состояние духа. «Вся эта работа давит меня, как кошмар, и я себя чувствую несчастнейшим человеком в нашей благословенной республике»; «если не удавлюсь, придется преподавать»[369], – жаловался он Кандаурову в мае 1922-го, и тот, как всегда, умел поддержать друга.
«Неожиданно успешная продажа моих работ тобою заставила меня сделать решительный шаг – к черту послал всякую службу, и я теперь вольный художник и сам себе хозяин. Милый мой, бесконечно я обязан тебе, ты так много сделал для меня, и нет слов благодарить тебя»[370]. Тогда же Константин Васильевич добился заказа на государственное издание альбома литографий Богаевского, привлек к работе над ним В. Д. Фалилеева и Н. И. Пискарева, которые помогли Константину Федоровичу освоить технику литографии. Несколько раз он выезжал в Москву, чтобы самому перевести на литографский камень свои работы и в результате сделал это блестяще. Половина тиража вышедшего в 1923 году альбома была отправлена Государственным издательством за границу в качестве образца художественного издания высокого класса, а Богаевский получил признание у власти. Впрочем, это не меняло его отношения к ней, а новые заказы не приносили удовлетворения. Четыре панно на крымские сюжеты для Всероссийской сельскохозяйственной и промышленной выставки в Москве (1923), исполненные в невозможный для серьезной живописи срок, мучили его больше, чем вынужденная бездеятельность. «Раздумывать не приходилось, и ради презренного металла я взялся за работу. ‹…› Результат получился очень плачевный – меня чуть не тошнило от взгляда на свои произведения, – сетовал Константин Федорович другу. – Не брани меня очень, когда увидишь эти позорные вещи. Все это меня теперь страшно мучает – зачем взялся за эту работу и заживо похоронил себя. Сейчас их отправили в Москву. А меня страх берет, что скажут о худ Богаевском»[371].
Считается, что избежать душевной боли можно, отказавшись от личности. Позиция крайняя и вряд ли может считаться универсальной. «Непромокаемый» оптимист Кандауров держался уверенностью в том, что искусство выше внешних обстоятельств жизни. Волошинский взгляд на сопричастность историческим событиям был более трезвым – драматичным, но плодотворным творчески. Из троих только Богаевский безутешно оплакивал «изгнание из рая»: боль для него оставалась только болью. Исторический ход событий казался если не чудовищным, то малоперспективным, поскольку лишал художника самого главного – индивидуальности.
«Страшно хочется работать, и возможности к тому абсолютно никакой. На небо и солнце любуюсь, только стоя где-нибудь в очереди у кооператива. А у нас сейчас весна, воздух молочно-серебристый пахнет морем – какой бывает у нас только весной, и сладостно было бы жить и работать на земле, если бы свинья-человек не превращал храма в конюшню»[372].