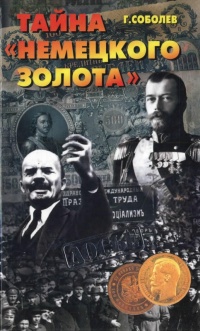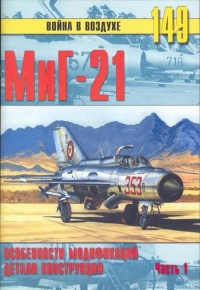Книга Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией - Сергей Абашин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Напомню, что в советской историографии сложился взгляд на басмачество как на выражение интересов «байства, местной буржуазии и реакционного духовенства», хотя в силу отсталости региона в него была вовлечена часть «трудового дехканства»[298]. В новой историографии Узбекистана оценка басмачества сместилась в сторону антиимперской и антисоветской критики. Согласно одной из здешних точек зрения, повстанческое движение начиналось с восстания 1916 года, когда попытки имперского правительства мобилизовать местное население на фронт вызвали массовое недовольство, которое переросло затем в более или менее организованное сопротивление большевизму, продолжившему колониальную политику[299]. Некоторые исследователи, впрочем, предлагают не сводить это движение к борьбе с большевиками и видят в его рядах различные региональные, этнические, политические и даже криминальные группы, которые нередко противостояли друг другу и решали свои собственные задачи[300]. Для ученых Таджикистана тема басмачества пока находится в тени, а в их оценках преобладает мнение, что это была «стихийная народная реакция на безвластие»[301].
Все эти мнения имеют под собой основания, и всегда можно найти факты, которые их подтверждают. Но меня в данном случае интересует не взвешивание на весах, кто прав или виноват, не реконструкция истинной истории и не поиск какой-то одной правильной объяснительной модели. Вслед за Брюсом Грантом я ставлю вопрос о том, каким образом местное население вспоминает о тех событиях, что оно видит или не видит, что акцентирует или забывает, какие образы, представления, интересы обнаруживаются, когда речь идет о прошлом.
В тех рассказах о Рахманкуле, которые я слышал в Ошобе, не было какого-то сакрального плана (хотя, возможно, мне просто не повезло его найти[302]). Курбаши не принадлежал к сословию «потомков святых», и жители кишлака воспринимали его как обычного человека. В некоторых рассказах были мифологические образы, но они не составляли основы нарратива. Тем не менее подход Гранта вполне приложим к моему случаю. Только я бы заменил сакральный контекст на локальный, с позиции которого ошобинцы видели и оценивали происходившее совсем иначе, нежели это делалось и делается в официозных историях басмачества, когда рассуждают об экономике, революции, классовой или национальной борьбе и так далее. Для жителей кишлака при описании и оценке Рахманкула важны обстоятельства, которые не видны внешнему наблюдателю: происхождение, родственные связи, наличие или отсутствие поддержки со стороны влиятельных семей, следование определенным нормам поведения, особенно по отношению к женщинам, защита интересов Ошобы. Можно предположить, делая поправку на более поздние искажения, что такое же местное восприятие господствовало и тогда, когда все эти события разворачивались в реальности. Люди участвовали в них на стороне басмачей либо на стороне их противников, или переходили с одной стороны на другую, или оставались нейтральными не по какой-то одной схеме, а согласно множеству частных соображений, которые им приходилось осознанно или неосознанно учитывать.
Я бы лишь добавил к той позиции, которую обозначил Грант, что местный нарратив не был полностью закрытым и независимым от внешнего воздействия — мы должны учитывать и изучать такого рода воздействия и пересечения с официальными нарративами. Репрессии против тех, кто был причастен к басмачеству, сформировали особый язык оправдания и осуждения Рахманкула. В местных преданиях ошобинский лидер действовал в интересах сообщества, но нарушил договоренности и был неизбежно, а значит, справедливо наказан. Этот язык позволял в случае необходимости гибко использовать историю басмачества и для доказательства своей особости (за жителями Ошобы закрепилось полушутливое прозвище басмачей), и для выражения лояльности советской идеологии.
ИМПЕРИЯ
Британский историк Рональд Робинсон в статье с провокационным названием «Неевропейские основания европейского империализма», которая была опубликована в 1972 году, провозгласил необходимость создания новой «теории империализма»[303]. «Старые» теории исходили исключительно из логики капиталистического развития Европы, которой понадобились колонии (как рынки сбыта и сферы извлечения ресурсов) и которая, соответственно, безраздельно господствовала в них. По мнению Робинсона, «новая теория должна признать, что империализм в равной мере был производной как самой европейской экспансии, так и сотрудничества (или отказа от сотрудничества), демонстрируемого его местными жертвами. Мощные силы, производимые индустриальной Европой, было необходимо объединить с элементами аграрных обществ остального мира. Без этого империя не смогла бы функционировать»[304]. Другими словами, империи создавались, как считает автор, совместно европейцами и неевропейцами через их взаимное сотрудничество.
Европа, писал Робинсон, приходила в другие части света со своими представлениями и интересами, но смогла создать устойчивую систему управления, только переведя свою власть на язык «местной политической экономии». По убеждению британского историка, без коллаборационистов (исключая какой бы то ни было негативный оттенок этого слова), или посредников, то есть людей, которые сами заинтересованы в приходе европейцев, империи невозможны. «Финансовые сухожилия, а также военные и административные мускулы империализма задействовались при посредничестве местных элит самих завоеванных стран»[305]. С точки зрения посредников, завоеватели приносят с собой новые источники власти и богатства, которые могут быть использованы местной элитой и послужить для укрепления ее могущества, а значит, колониальное управление местным элитам было нужно не меньше, если не больше, чем иноземным. Завоеватели же имели довольно ограниченные силы, чтобы полностью контролировать коллаборационистов и использовать их исключительно в своих собственных интересах.