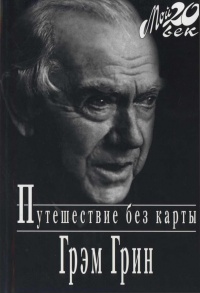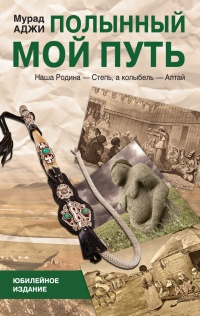Книга Камень и боль - Карел Шульц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Куда ты хочешь идти? В мир? Останься! Видишь: буря! Христос позвал тебя к брату или к себе? Он отделил от тебя, по доброте своей, мир бури, а ты все-таки пойдешь? Ты художник. Здесь был фра Анджелико, и у нас, в Сан-Марко, есть его произведения. С нами сейчас живописец делла Порто, он отрекся от искусства дьявольского и принял одежду нашего ордена, — ныне он фра Бартоломео. Скольких тебе назвать еще? Боттичелли еще пишет? А Поллайоло? А Филиппино? А фра Бартоломео — разве не великий художник, и не расцветает ли искусство его тем больше, чем усердней он следует дисциплине и правилам иноческой жизни? Куда же ты идешь?
Буря билась в монастырские стены. Ливень молний озарил небо и землю. Страшный громовой раскат потряс город, и словно земля расселась. Мальчик посинел, а монах выпрямился. Фигура его в темноте галереи и свете факелов стала огромной.
— Мы приняли не духа мира сего, а духа от бога, дабы знать дарованное нам от бога, — продолжал он. — А от кого принял ты? Не верь тем, кто льстит тебе, говоря, что твое искусство — хорошее. Придет время, бог скажет, хорошее оно было или нет. Тебе сейчас говорят, что хорошее. Это люди говорят. А потом придут другие и скажут, что краски твои — сажа, камень твой — кал и пепел. Люди скажут это. Хочешь идти туда? Останься. Там буря, оттого что там — мир. А здесь крест, — а близ креста нет бури. Я не предлагаю тебе лавров художника, но венец мученический. И такая в нем сладость и прелесть, какой не найдешь ни в каких почестях. Предлагаю тебе лютню любви божьей и пиршество вина, мирры и желчи. Предлагаю тебе розы рая его и алмазы слез его матери. Предлагаю тебе отказ от своей воли во имя бесценной воли господней. Предлагаю тебе терпенье во имя бесценных страданий, что претерпел Христос. Предлагаю тебе служение во имя бесценного, сладчайшего сыновства его. Предлагаю тебе наивысшую свободу во имя бесконечного милосердия и обетований его. Там — разодранные лохмотья дел мирских, здесь — одежды брачные.
Микеланджело смотрел, вытаращив глаза, на костлявые руки монаха, простертые к нему для объятия. Он чувствовал, что не в силах слова сказать. У него язык прилип к гортани, а руки до того отяжелели, что их никакими силами не приподнять. Он готов был кинуться в объятия монаха, но знал, что прежде свалится на землю без сознания. Колени — как гранитные, не согнуть. Нельзя. Рыданье окаменело в груди. Хочется плакать и нельзя. Здесь что-то сильней его воли. Здесь приказ: нельзя!.. Монах ждал. Потом вдруг распахнул окно.
Это было страшно. Буря упорствовала. Молнии остриями своими зарывались в растрескавшуюся землю, и сквозь решетку лиловел и вновь покрывался серной желтизной город. Расщепленный молнией дуб против окна пылал голым стволом. Смерть дышала из вырванных кустарников и каменистой почвы, и дыханье ее было шипеньем. Из черных туч, сгрудившихся куполом и разбухших, доносились ледяные звоны, беспрестанно напоминающие о себе. Снова падала тьма, и снова озарялись небо и земля, и оглушительные удары рассеивали черный свет далеко окрест. Монах остановился и холодно указал на эту картину разрушения и гибели.
— А теперь ступай и подумай, есть ли бог! — вдруг воскликнул он. — Где ты найдешь его? Но тебе хотелось туда? Ступай!
Улицы. Улицы, проваливающиеся куда-то в глубину, — дорога, все время возвращающаяся обратно. Под порталом дома, которого я никогда больше не увижу, которого днем не узнаю, скрывшись не от бури и мира сего, а от самого себя, я ломаю теперь руки в судорожных рыданьях.
Во имя отца, и сына, и духа святого — аминь. Вчера я окончил рельеф мадонны. Впервые создавал произведение о матери божьей. Этот камень уже не был нечистый. Я работал, не жалея себя, бился и окончил. Боже мой, зачем не остался я в Сан-Марко среди братьев, где нет бури и дел мирских? Отчего не мог ни слова вымолвить, а вот теперь, в одиночестве, — говорю. Боже, услышь молитву мою — отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое. Матерь божья на камне моем глядит не на людей, которые возносят к ней свои молитвы, а куда-то в пространство; и все-таки нет, не в пустое пространство, не в никуда, — я сделал так, чтобы знали, чтобы помнили, чтобы каждый невольно задавался вопросом, куда глядит матерь божия, да приидет царствие твое, да будет воля твоя яко на небеси и на земли, чтобы меня спрашивали, почему она сидит у лестницы, — я не знаю, а вы? Куда ведет эта лестница? На лестницах сидят нищенки. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Сидит величавая, прямая, царица, все знают, что царица, царица у лестницы! А младенец уснул. Сын божий спит, а мать бодрствует, глядя куда-то вдаль, не на людей… И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, — куда ведет эта лестница? Сын божий устал и заснул. Мать глядит серьезным, строгим взглядом, глядит перед собой, Мария охраняет младенца, охраняет сына божьего, который устал. Куда ведет эта лестница? И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, аминь. Торжественно, серьезно глядит Мария, одеянье еще взволновано только что отзвучавшим движеньем, оттого что она приподняла руку, чтоб крепче прижать сына к сердцу. Почему говорят, что она глядит в пустоту? Не понимаю, что же тут страшного… Радуйся, благодатная Мария, господь с тобою, да, господь всегда с тобою. Младенец уснул, и ты укрыла его, господь всегда с тобою; взгляд полон предчувствий, но все же взгляд повелительный, откройся и наполни сердце, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, аминь. Маэстро Бертольдо поглядел на работу мою с изумлением, стал изучать наклон головы и мощь фигуры. Подивился тому, что я нашел новое наполнение плоскости, ничего не оставил вокруг, тело примыкает тесно к камню. Младенец не благословляет, он спит, это показалось ему странным, этому он удивился. Все привыкли к тому, что младенец всегда благословляет, — ну да, так привыкли… Он долго всматривался в выражение лица Марии. Перечислял мне образцы, от которых я отклонился. Назвал имена: Бенедетто да Майано, мессер Росселино, Лука делла Роббиа. Называл и другие. Сказал, что самое главное — моей мадонне не хватает улыбки. Привыкли, чтоб она улыбалась, — ну да, привыкли… Мария снисходит к человеческим скорбям. А моя божья матерь не улыбается. Моя божья матерь не снисходит. Она повелительница, царица. А все-таки сидит у лестницы. Так сидят одни нищенки. Тоже с ребенком на руках. Моя царица сидит у лестницы и охраняет младенца, а куда смотрит? Ждет молитв? Но иные молитвы человеческие попадают в ад…
В эти страшные времена неуверенности и смятенья матерь божия — у лестницы. Видно, скоро конец света.
Он встал и пошел. Жестокий ливень слепил его, промочив до нитки. Гроза утихла, — верно, нашла добычу, цену которой знала. Ливень стоял стеной, которую надо раздвинуть. Он шел, — даже стражи не было на улицах, — шел один…
Даже стражи не было на улицах! Шут Скарлаттино, видя, что гроза прошла, осторожно открыл дверь своего домика и кивнул старухе, чтоб выходила. Ведьма, до того безобразная, что, когда она отваживалась выйти днем на улицу, в нее кидали камнями, скользнула во тьму.
Скарлаттино на рассвете нашел на ступенях храма Сан-Пьетро-Маджоре мертвого ребенка. Было неясно, погиб ли ребенок от голода или от материнской руки, но шуту стало жалко трупик, и он заплакал над ним. Потом взял его себе под мышку и стал бегать с ним по городу, прося похоронить его по-христиански, — но дурака отовсюду гнали, так что горб его весь покрылся синяками. Эти шутки были ему не по вкусу, отовсюду его гнали, а он все продолжал ходить от одного храма к другому, от одного приходского дома к другому и просил, просил безуспешно. Потому что не задаром земля освящена, а у шута не было денег, да и были бы, так ни священникам, ни похоронному братству не хотелось докапываться, окрещен ли ребенок-то, ведь нынче по всему краю множество еретиков бродит, и ну как сгниет ребенок в освященной земле, станет пугать, а то еще мор начнется. И вот шут пробродил целый день, осыпаемый насмешками, а вечером вернулся домой с трупиком. Положил его на стол, обмыл, зажег свечку и стал ждать, когда ребенок проснется, — он будто спал. Шут взял тарелку, сварил кашу и стал себя ругать за то, что сперва счел его мертвым: теперь свет от свечки трепетал на личике ребенка, так что была опасность, как бы он не проснулся слишком скоро и не стал плакать от голода. Но, видя, что ребенок долго не просыпается, шут потрогал его — он был холодный. Тогда шут зарыдал о том, что у него умер ребенок, начал с воплями рвать волосы у себя на голове, горько сетуя, что княжескому забавнику отказано во всех радостях на свете. Потом успокоился и стал надеяться. Сел к очагу и принялся ждать чуда. Но чудо не пришло, пришли буря и старуха. Обе вместе, и поэтому он сперва взвыл от ужаса, решив, что обе пришли за ним. Старуху звали Лаверна — на смех. Она жила в домишке с такими прогнившими стропилами, что они только благодаря заклятию не обрушивались ей на голову. Никто не знал, почему она еще жива, — один только дьявол. Но она не всегда была старухой, когда-то у нее было другое имя, — ее звали Джанеттой, — такое же красивое имя, как она сама, и происходила она из рода Фоскари, цвет лица у нее был белей нарцисса, а губы слаще гиметского меда, патрицианские сынки ходили в храм ради нее и мечтали о любви, страстно клянясь своим именем и родом, но она отдала безраздельно свое сердце и тело дворянину Джано Торелли, который всегда ждал ее у кропильницы, плача от любви. Но братья ее ненавидели Джано, они проникли однажды ночью к ней в спальню, где она предавалась со своим милым любви, и пронзили его мечами прямо на ее обнаженном теле, она стала кровавой невестой, и ни один мужчина уж не дотронулся бы до нее. Братья отрубили ее милому голову, но прекрасная Джанетта нашла ее, положила в цветочный горшок, засыпала землей и, когда мясо сгнило, посадила цветок и стала поливать его слезами. Цветок рос, благоухая любовью, благоухая поцелуями любимых губ. Джанетта все время сидела у окна, целовала цветок, оплакивая любовь. Братьям это показалось странным, они разбили горшок, нашли череп и выгнали сестру из дома, натравив на нее собак. Теперь она старуха, никто не знает, откуда она взялась во Флоренции, — она старуха в лохмотьях, безобразная, отталкивающая покровительница злодеев, поэтому ее зовут Лаверна, и еще для того, чтоб у нее было какое-нибудь имя. Лаверна — имя нимфы, pulchra[42]Лаверна — это звучит смешно, но вот молитва убийц и мошенников в Древнем Риме: "Pulchra Laverna, da mihi fallere, da justo sanctoque videri peccatis et fraudibus obice nubeni…" — "Прекрасная Лаверна, пошли мне уменье обманывать и при том казаться праведным и святым, опусти покров ночи на грехи мои, злоумышления мои мраком окутай…" Вот какая молитва! Старуха была Лаверна, хоть и не нимфа. Услыхала о трупике и, как зверь на падаль, пришла за ним к шуту, крадучись в буре и тьме. Потому что от мертвого ребенка все части идут в дело, коли сварить их с соответствующими снадобьями и толково подобранными примесями. Сердце сердцу весть подает, это таинственная правда, а сердце ребенка, сваренное с миртовыми эссенциями, поможет брошенной девушке, которая должна, опозорившись, родить. Нужно колоть детское сердце, сваренное вместе со свадебным миртом, длинной иглой, приговаривая: "Prima che'l fuoco spenghi, fa ch'a mia porta venghi…" — "Прежде чем огонь погаснет, заставь его вернуться к моей двери, пусть его пронзит любовь моя, как я пронзаю это сердце…" Детская рука, копченная над горящим обломком виселицы, полезна для разбойников, а у кого в кошельке есть кусок детской печени, у того удачно пойдет любая торговля. Неуязвимость дает частица ребер, а хитрость черепная кость ребенка, самые красивые девушки будут ложиться к тебе в постель, если ты имеешь его лобковую часть, и у того не падет конь, кто заполучит легкие детского трупика. Все идет в дело, коли хорошо проварено, с соответствующими обрядами и ядами в час могущества дьявола и потом высушено в лунном свете, probatum est[43]по старым книгам, — и пупок годится, и обрезки ногтей.