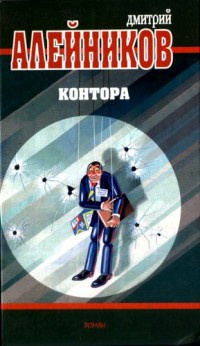Книга Контора Кука - Александр Мильштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что подтверждал её короткий рассказ о жизни «до цыган» — по её словам, она была то ли медсестрой, то ли санитаркой, а какое-то время даже скорой помощью… Глядя на её «скорые руки», предплечья, покрытые вертикально-адскими сценами, напомнившими Ширину если не сами огромные полотна Рубенса, то наброски к ним, стоявшие в параллельных маленьких залах пинакотеки… ну да, «Свержение грешников в ад», — на запястьях, на предплечьях — летят тела, вьётся цветами адское пламя, татуировки были цветные, да, не только синий цвет — как у язычков газовой горелки, но и красно-малиновый, и тёмно-зелёный… И когда она сказала, что работала на «скорой помощи», он невольно представил себе, как человек приходит в сознание на носилках и первое, что видит, — языки адского пламени, синие головы, кричащие от боли… не потеряет ли он сознание снова, и уже навсегда? Когда он спросил об этом Лиззи — не жаловался ли кто-то из больных на её «тату»…
«Да нет, — сказала она, — какое там… Да ты что? Все были так рады, когда мы наконец приезжали, какие уж там жалобы…»
И разговор снова соскользнул с кареты скорой помощи к «цыганским» кибиткам… так что Лев, слушая о её лесной жизни, подумал, нет ли в этом какой-то альтернативы, в двух каретах… То есть нельзя ли сбежать в одной от другой…
Ну, не слышал, так услышал теперь: «современные цыгане», да, не этнические, а просто так, англичане, сбежавшие в леса, где они живут, как до потопа, без электричества и туалетов, перемещаясь в повозках, запряженных лошадьми, как на съёмках вестерна, да, только всё всерьёз — включая жёсткие налёты полиции… да-да, и с детьми, есть дети, которые там и родились — в лесах, в кибитках… Школа? Ну какая там, к чертям собачьим, школа, родители их сами же и учат, вместе с друзьями, у многих, кстати, академическое образование — у родителей, даже степени… слушая, Лев кивал, вспоминал других эскапистов — из советского, из перестроечного времени… и тихонько как бы даже подпевал Лиззи при этом своими «йе, йе, ай си», вспоминая мелодии с диска «Thin Lizzy» — из «Вагабундов западного мира», думая про себя… как странно всё устроено, этот проигрыватель… в самом деле, уйти ли к чёртовой матери… к «цыганам»… сбежать… как он когда-то хотел смыться в ашрам, к Раджнишу, смешно сказать, смешно сказать… как Джонатан, с которым Ширин познакомился у себя в библиотеке. Разговорились, и Ширин узнал, что Джонатан лет двадцать провёл перед этим в раджнишевских лагерях…
Ширин рассказал о прочитанном в «самиздате», отпечатанном на машинке…
И растроганный раджнишевец свозил его на своей раздолбанной машине… в центр Бхагвана, в Мюнхене, да, Ширин уже не мог бы вспомнить, в каком это районе города, даже приблизительно… Да и какое это имело значение… По словам Джонатана, весь Мюнхен — это «эзотерический центр Европы», вот так вот, поэтому он, наверно, туда и переехал навсегда из своей старой доброй… а Льву вот пришло в голову — в порядке предутреннего бреда, в порядке бессонницы, в порядке кессонного — слишком быстрого — погружения на дно Лондона… Взять и сбежать вместе с этими «цыганами» — как-то это, со слов Лиззи, казалось ему всё свежее и свежее… наименьшим из зол… эта мысль, во всяком случае, чем раджнишевские, да и любые, ашрамы и прочая дурость…
Ширин ясно припомнил вдруг тапки — да-да, огромные тапки, башмаки-чуни, принадлежавшие Бхагвану и стоявшие после его смерти в его центре — в самом центре Европы, Мыльного пузыря, Пути… посреди огромной залы с великолепным сверкающим паркетом…
Ширин тряхнул головой, открыл глаза и увидел, как Лиззи лунатически поднялась из-за стола и подошла к пустым бутылкам, которые ещё днём он сгруппировал… Разделил то есть на партии коричневого и зелёного стекла…
— Это ты их так расставил или Питер? — спросила она.
— Я, — сказал Ширин, потирая глаза.
— Зачем?
— А… Я не знаю, как вы здесь… а мы в Германии разделяем отходы, есть множество категорий мусора… Ну и стекло, соответственно, коричневое — отдельно, зелёное — отдельно, белое… но белого здесь не было… А вы что, не разделяете? — Ширин вообще-то был не всегда и не совсем… такой прибитый, если вы ещё помните… Просто в данный момент он был уже… даже и не сонный, а вообще «никакой» — иначе он всё-таки знал бы, кого и о чём спрашивать, и никогда не задал бы вполне тихой вплоть до этого момента «чавихе» (как он её давно уже назвал про себя, образовав от «chav», естественно) этот, оказавшийся провокационным… вопрос.
— А как же, — радостно сказала Лиззи, — конечно разделяем!
И подхватила с пола бутылку.
— Коричневое — направо, — сказала она и швырнула её в открытое окно. — Зелёное — налево, — и, подняв с пола зелёную бутылку и широко размахнувшись, она швырнула её во второе окно, которое Ширин перед этим тоже открыл, чтобы «как следует проветрить помещение».
Он вспомнил об этом эпизоде из жывой жызни , а заодно и нечто из серии «то, что было не со мной, вспомню», о «новых цыганах», живущих в лесистой части Острова так, как будто не было двух тысяч лет, как будто он и сам трясся в их кибитках, может быть, таки во сне, «чужие люди верно знают, куда везут они меня…» — бормотал он, очнувшись и глядя в иллюминатор, и ему, кажется, и в самом деле перед этим что-то такое снилось-грезилось… Всё это уже в самолёте, куда патентовед попал совершенно выпотрошенный «молохом Лондона», говоря эпически, ну да… звон разбивающихся об асфальтовое дно бутылок, вылетевших в два окна… прямо как та чума на оба ваших дома… был в каком-то смысле пограничным — в жизни это был момент, как бы сказать, просветления… а в баснях Ширина — по его возвращении, в зависимости от личности собеседника, варьировались различные дальнейшие сценарии: в одних были только «молотовы коктейли» — в тех же бутылках, в других — ещё и «ведьмины молоты», вырывавшиеся из бутылок духи, beer jinnee, gipsies… и так далее — вплоть до самых «грязных» сцен — в зависимости от собеседника, понятно, что Паше, к примеру, Ширин рассказывал одно, Лиле — другое, а Софи — третье… С годами туда же — к звону бутылок — как бы примкнули и «цыгане», с которыми Ширин якобы проехал в кибитках несколько сот километров по зелёным холмам, но это он рассказывал довольно редко, если все темы были исчерпаны, а виски или что там было… но в особенности — если это были виски, — виски навевали Ширину тему британской цыганщины… Но сейчас — в нашем повествовательном «сейчас» — да, Ширин вспоминал то, чего не было, но могло быть, если бы он сбежал, как порывался, с лесными сёстрами или с городскими бомжихами… и жил без горячей воды… глядя не в иллюминатор, а в такого же примерно размера и такой же формы, что иллюминатор, если не побольше, — линзу…
Да-да, глядя сквозь линзу — на блоху, запряжённую в кибитку, — тележка с большими колёсами — перемещалась, и не так уж медленно, колёса вращались… Правда, ту блоху, что сидела на козлах, Ширин не мог разглядеть, может, её там и не было, но в том, что блоха везла кибитку, сомнений не было, а уж была ли она при этом подкована, you never know… А уж в самой кибитке — была не была, Ширин вот не мог этого понять…
Да, надо же было сказать: действие тем временем перенеслось уже в Мюнхен и совершалось теперь усилиями маленьких существ в балаганчике с вывеской «Floh-Circus» — «Блошиный цирк», куда Ширин раньше никогда не заглядывал, да и теперь прошёл бы мимо, если бы не любопытство известного фотографа.