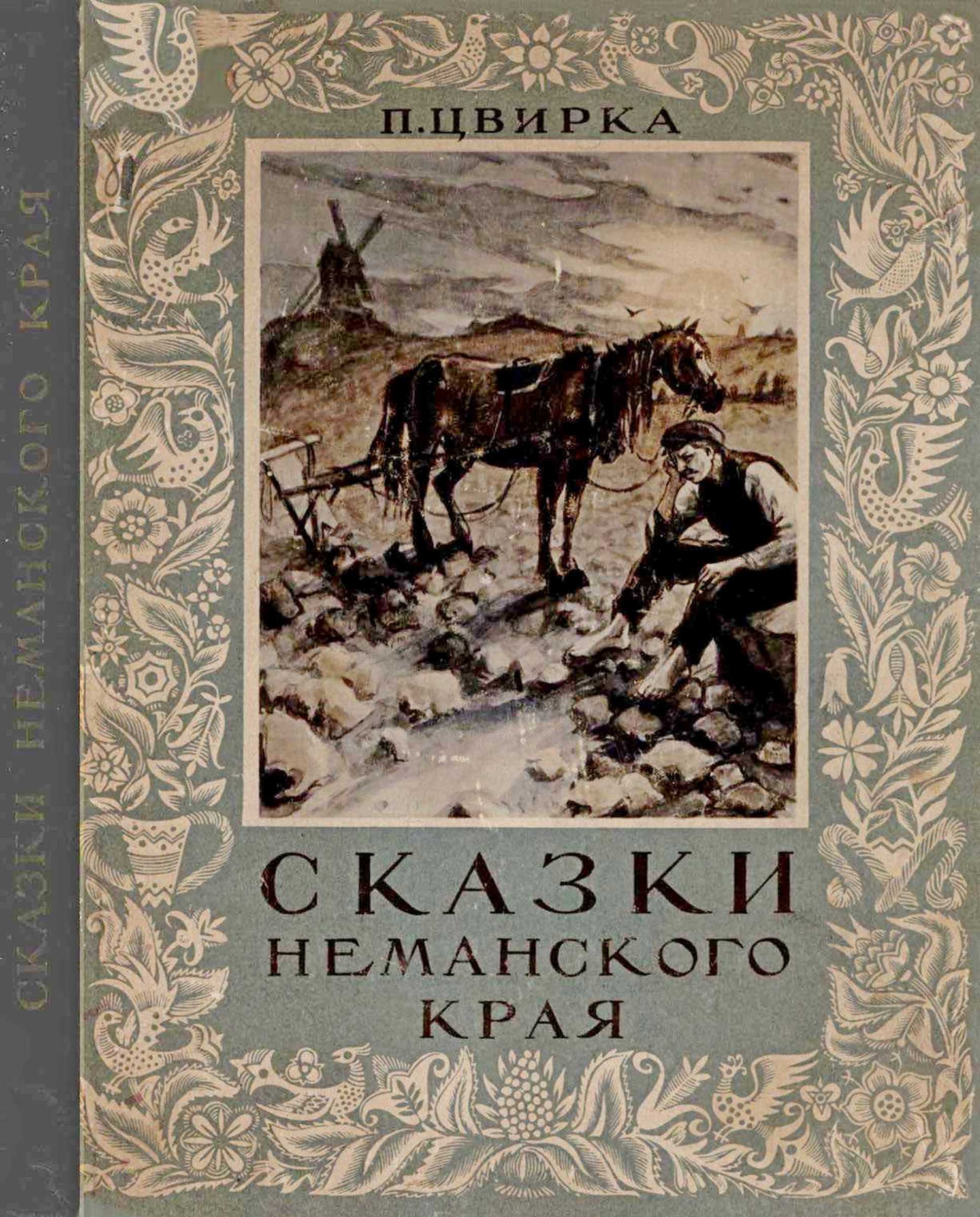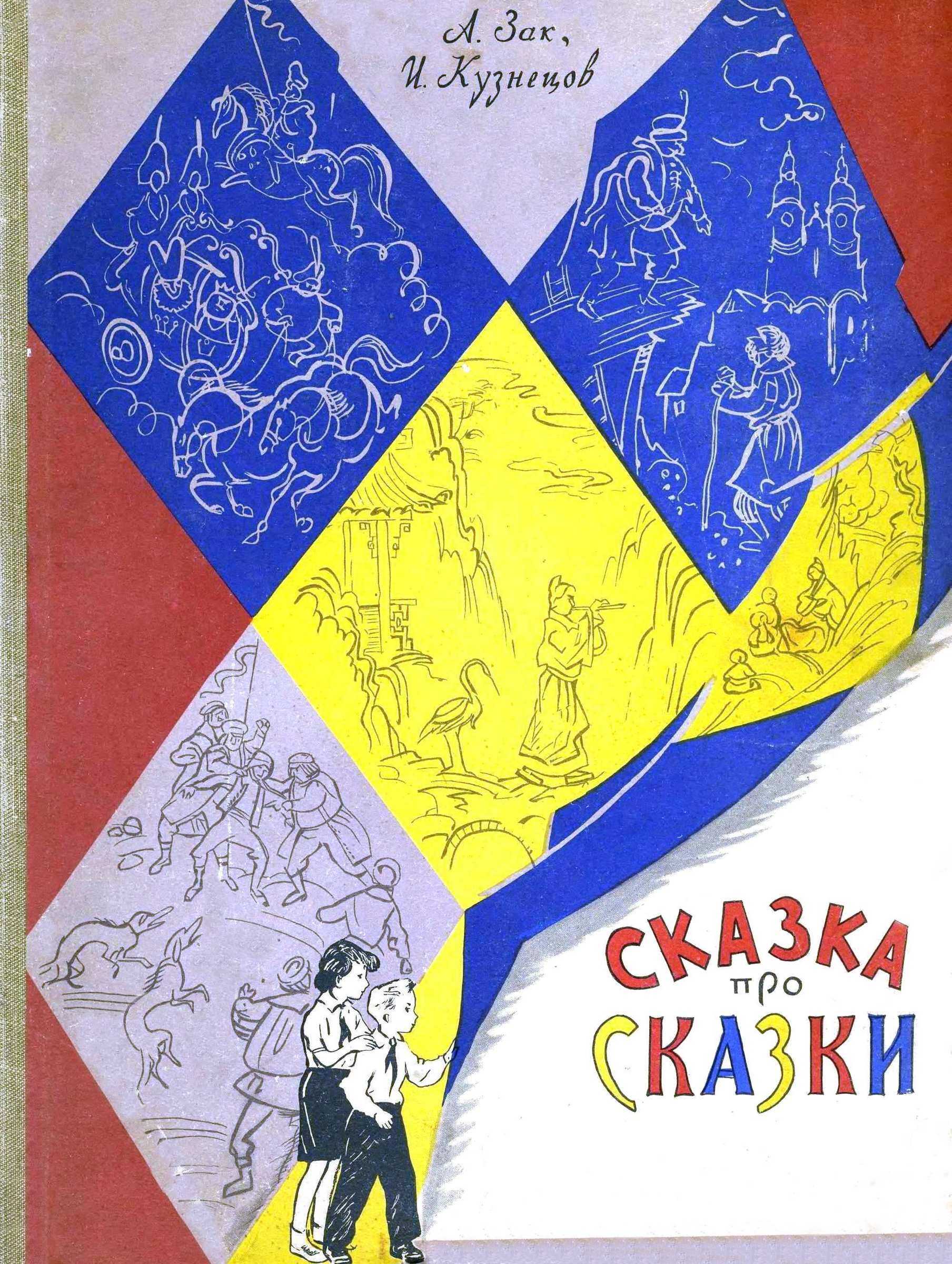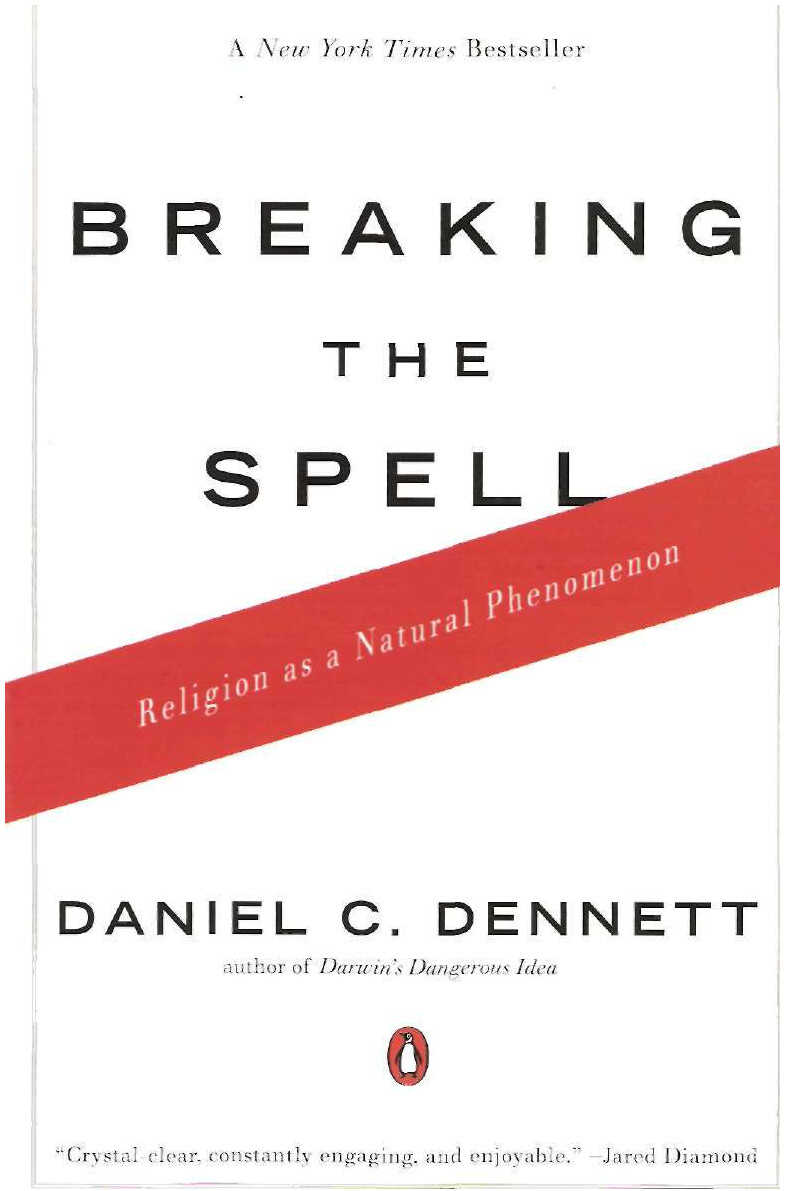Книга Некрополитика - Ахилл Мбембе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так зачем уезжать? В какой момент поселенец начинает задумываться о том, что, возможно, лучше уехать? В тот момент, когда он осознает, что дела идут не лучшим образом: "атмосфера становится гнилой"; "страна щетинится"; дороги "больше не безопасны". Пшеничные поля "превратились в пламя". Арабы "становятся враждебными". Скоро они будут насиловать наших женщин. Наши собственные яички будут "отрезаны и зажаты между зубами". Но если ситуация действительно изменилась к худшему, то только потому, что колониальная проказа распространилась повсюду, а вместе с ней и "эта огромная рана", погребенная под "извилистым листом молчания", - совокупность молчания всех, так называемое невежественное молчание, которое, следовательно, утверждает свою невиновность на основе лжи.
Как может быть, что никто не видит эту страну и людей, населяющих ее? Что никто не хочет хоть немного понять, что происходит вокруг них каждый день? Как можно поднимать шум и крик о своей заботе о человечестве, "но только не об арабах", ежедневно отвергаемых и превращаемых в "сахарскую мебель"? Как можно "не пожать руку арабу", "не выпить с ним кофе", "не поговорить с ним о погоде"? Ведь, в конце концов, ни один европеец "не бунтует, не возмущается и не тревожится всем, кроме судьбы, уготованной арабу".
Для Фанона, таким образом, не существует права на безразличие или игнорирование. По его мнению, задача врача в колониальном контексте, помимо чисто технических аспектов, состоит в том, чтобы поднимать бунт, возмущаться, выражать тревогу за судьбу тех, чьи спины согнуты и чьи "жизни остановлены", чьи лица несут следы отчаяния, в чьих желудках читается отставка, в чьей крови диагностируется "простертое изнеможение целой жизни". Медицинский акт направлен на создание того, что он называл жизнеспособным миром. Врач должен быть в состоянии ответить на вопросы "Что происходит?"; "Что случилось?".
Это требование быть способным отвечать влекло за собой аналогичную обязанность видеть (отказаться от самоослепления), не игнорировать, не умалчивать, не диссимулировать реальное. Это требовало смешения с теми, кто был высушен, с тем миром людей без снов, и ясного и отчетливого рассказа о вещах, действующим лицом и свидетелем которых вы являетесь. "Я хочу, - заявлял Фанон, - чтобы мой голос был суровым, я не хочу, чтобы он был красивым, я не хочу, чтобы он был чистым, я не хочу, чтобы он имел все измерения". Напротив, он хотел, чтобы он был "разорван насквозь". "Я не хочу, чтобы это было забавно, потому что я говорю о людях и их отказе, о повседневной гнилости людей, об их ужасном провале".
Ведь только голос, "прорванный насквозь", мог передать трагический, душераздирающий и парадоксальный характер медицинского института в колониальной ситуации. Если цель медицинского акта действительно состоит в том, чтобы заглушить боль, борясь с болезнью, то как получается, что колонизированные воспринимают "врача, инженера, школьного учителя, полицейского, сельского констебля сквозь дымку почти органической путаницы"? "Но война продолжается. И еще много лет мы будем перевязывать бесчисленные и порой неизгладимые раны, нанесенные нашему народу колониальным натиском".
Обе фразы сразу же устанавливают причинно-следственную связь между колонизацией и фактами травм. Они также указывают на то, как трудно раз и навсегда излечить жертв колонизации. Эта трудность связана не только с тем, что усилия по излечению занимают почти бесконечное время. В действительности некоторые раны, порезы и повреждения никогда не будут залечены из-за их глубины; их шрамы никогда не сотрутся; их жертвы навсегда останутся в памяти. Что касается колониальной войны, то она рассматривается здесь с точки зрения психических расстройств, которые она порождает как среди агентов оккупирующей державы, так и среди туземного населения.
Этот молодой двадцатишестилетний алжирец - яркий тому пример. На первый взгляд, он страдает от постоянных мигреней и бессонницы, но на самом деле проблема заключается в половом бессилии. Сбежав с операции по оцеплению, он бросил такси, которое сначала использовал для перевозки листовок и политических лидеров, а затем, мало-помалу, алжирских коммандос, участвовавших в освободительной войне. В такси остались два магазина для пистолетов-пулеметов. Поспешно присоединившись к маки, он не имел никаких известий о жене и двадцатимесячной дочери, пока в тот день супруга не пришла к нему с посланием, в котором просила забыть ее.
Просьбу о забвении можно объяснить тем, что она пережила двойное изнасилование: сначала в одиночку ведущим французским военнослужащим, затем другим, и, по мнению некоторых других, надо сказать, свидетелями? Двойное унижение, которому она подверглась, сразу же поднимает проблему стыда и вины. Если первая сцена изнасилования происходила почти наедине, при встрече лицом к лицу между женщиной и ее палачом, то вторая приобретает характер публичного заседания. На этой сцене позора выступает один-единственный солдат, но под квазипорнографическим взглядом нескольких других, которые переживают это испытание в режиме делегированного наслаждения. Над сценой нависает физически отсутствующая фигура, но та, чье призрачное присутствие побуждает солдата-насильника усилить ярость. Эта фигура - муж. Изнасиловав его жену, французские солдаты нацеливаются на его фаллос и стремятся символически кастрировать его. В этом конфликте между мужчинами женщина служит, прежде всего, заменителем и, кроме того, объектом для удовлетворения садистских побуждений офицера. Для этого офицера речь идет, пожалуй, даже не о наслаждении. С одной стороны, речь идет о том, чтобы глубоко унизить женщину (а через нее и ее мужа), нанести непоправимый ущерб их соответствующим чувствам гордости и достоинство, а также представление о себе и своих отношениях. С другой стороны, через акт изнасилования закладывается нечто вроде отношений ненависти. Ненависть - это не только отношения признания. Это, прежде всего, отношение презрения. Один фаллос казнит другой фаллос: "Если ты еще раз увидишь этого ублюдка, твоего мужа, не забудь рассказать ему, что мы с тобой сделали". Более того, если запрет выполнен, несчастная супруга подчиняется.
Прося мужа забыть ее, женщина выражает отвращение и унижение, которые она, должно быть, испытывала. Ее интимное и тайное существо было обнажено для чужого взгляда, для взгляда неизвестных людей, для взгляда оккупанта. Ее желание, ее скромность, ее скрытое наслаждение, как и ее телесная форма, были если не осквернены, то, по крайней мере, выставлены напоказ, выставлены против ее воли, оскорблены и сделаны вульгарными. Она больше никогда не сможет продемонстрировать их в целостности и сохранности.
А поскольку все происходило на глазах