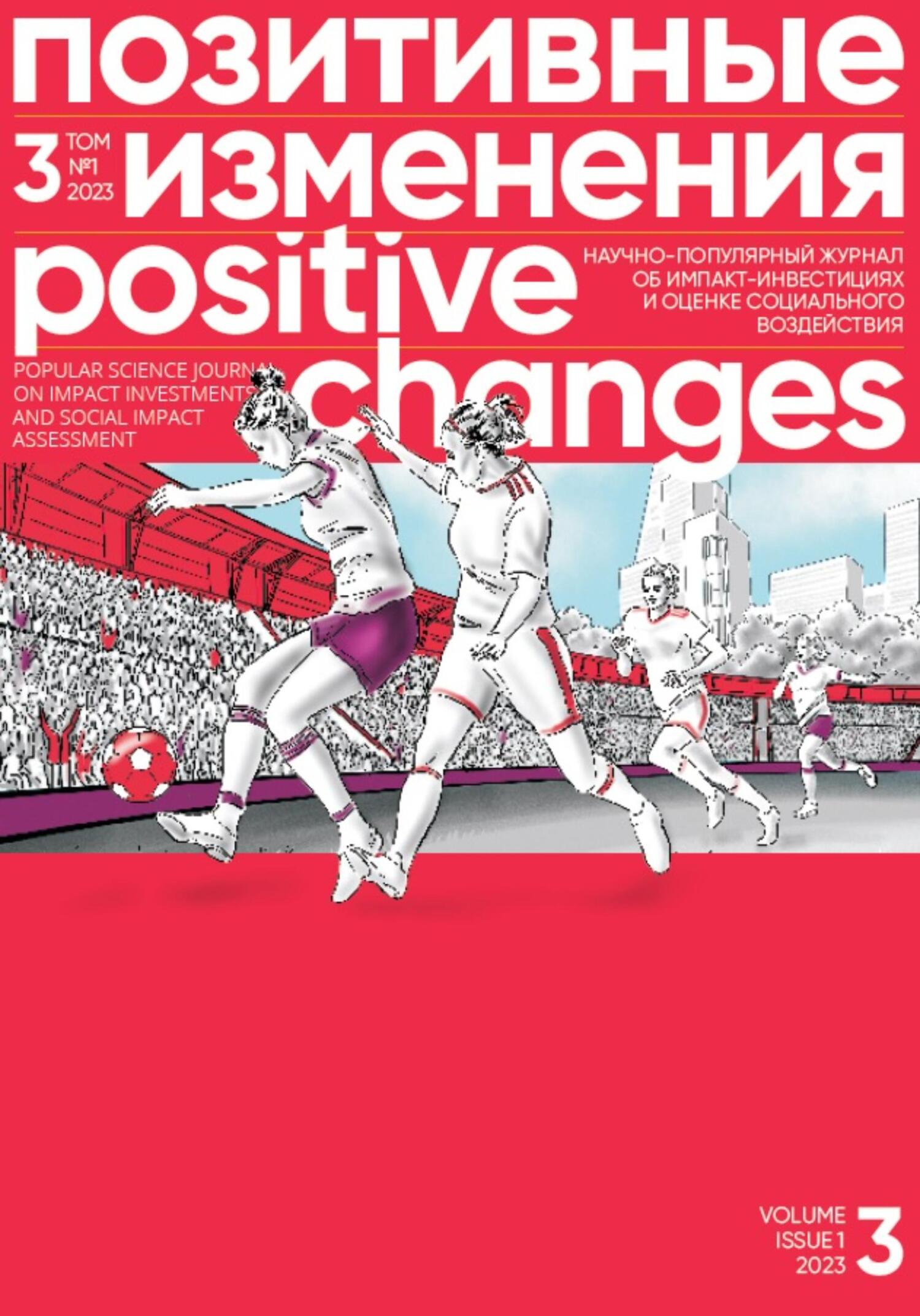Книга Между прочим… - Виктория Самойловна Токарева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды Кипса сказала Ане:
– Я хочу сделать Кате с Мишей отдельное помещение. Поставить капитальную стену, вот тут.
Она показала часть прихожей и комнату Павла Григорьевича.
– А папу куда? – спросила Аня.
– Ну… когда-то это должно кончиться…
– Что «это»? – не поняла Аня. Потом поняла.
Да. Когда-то «это» кончается. Павел Григорьевич умер в 1978 году, через десять лет после Зои, в возрасте восьмидесяти двух лет. Его похоронили рядом с Зоей на Востряковском кладбище.
Кипса поставила капитальную стену там, где хотела, но она пережила отца всего на два года. Ее убил диабет.
Наталья Николаевна осталась одна. Она пережила своих детей – Кипсу и Володю, бывшего мужа, поэта Павла Антокольского. Остались двое внуков и шестеро правнуков. Но внуки и правнуки – это через поколение. Им старики неинтересны. Это жестоко, но правильно, иначе бы не было прогресса. Никого не интересует прошлое, никто не живет с вывернутой шеей.
Наталья Николаевна гуляла в одиночестве по аллеям поселка, одетая кое-как, в кедах без шнурков. Можно было подумать, что идет бомжиха, и только выражение лица, исполненное ума и достоинства, выдавало в ней прежнюю дворянку, помещичью дочь. Где-то в дальней дали остались Ключищи, студия Вахтангова, любовь к Володе Алексееву, мама Павлика, похожая на императрицу. Много было всего. Жизнь обидела и обманула, но ее сердце было полно любви к потомкам. А человек, умеющий любить, уже состоялся.
Денис рассказывал мне, как Наталья Николаевна учила его в детстве французскому языку. Денис не хотел учиться, норовил смыться к друзьям на улицу, но прабабушка привязывала его к крыльцу веревками и не отпускала до конца своего урока. В результате Денис стал свободно говорить по-французски, и это его очень украшает.
Кипса не собиралась умирать, поэтому не успела оставить завещания. Это привело к многолетней жестокой схватке между наследниками.
Писательский поселок – лакомый кусок: участок полгектара, вековые сосны, близость к Москве.
Каждому наследнику хотелось пошире раскрыть рот и откусить побольше от этого пирога.
Дележ наследства очень редко проходит гладко, но более безобразной тяжбы, чем у наследников Антокольского, история не помнит. Воспаленные, доходящие до бешенства ссоры сотрясали дом. Они дрались, выдирали друг у друга волосы большими клоками, и эти волосы, как паутина, летали по участку.
Наталья Николаевна в драках не участвовала, а просто отдала свою долю любимому правнуку.
Жена Андрея Анна Тоом пришла в правление кооператива и объяснила: Денис – несовершеннолетний, за ним стоят Мила и Художник. Они и будут пользоваться наследством, хотя никакого отношения к клану Антокольских не имеют.
В этом была своя логика, но Наталья Николаевна смотрела далеко вперед. Она понимала: когда-то Денис станет совершеннолетним и эта часть дачи ему понадобится. Так оно и оказалось.
Все кончилось судом. Жена Андрея Анна Тоом, талантливая и бесстрашная, отсудила лучший кусок, но оставаться на даче уже не хотела. Ей невыносимо было видеть своих недавних оппонентов. Она продала свой надел. Кому? Мне.
Я пошла посмотреть, что мне предлагают. Стояла зима. Снег лежал на деревьях. Берендеево царство. В глубине – маленький пряничный домик времянки, и казалось, что там пахнет свежевыпеченными пирожками.
Мимо проходил писатель Юрий Бондарев – высокий, значительный, похожий на хирурга Кристиана Барнарда, который первый сделал пересадку сердца.
Юрий Бондарев задержался возле меня.
– Брать? – коротко спросила я.
– Еще как, – коротко ответил Бондарев.
Сказано – сделано. Я купила у Анны и Андрея кусок земли, и это составило мое счастье. Мы с Анной Тоом отметили покупку чашкой чая с тортом. Торт был тяжелый, с масляным кремом. Но тогда других не делали.
Анна продала мне свою часть, пятнадцать соток, и эмигрировала с семьей в Америку. Золотые мозги ее мужа оказались востребованы везде: и тут и там. В Америке даже больше.
Времянку я оставила на прежнем месте и в прежнем виде, поскольку это была мастерская Кипсы. Рядом построила дом.
Если бы я не была писателем, то с удовольствием стала бы строителем. Это очень интересно и чем-то похоже на сочинение книги: сначала замысел, потом исполнение, потом редактура.
Я построила, а потом редактировала свой дом: обставляла, украшала. Я понимала Зою Бажанову, которая была увлечена своим гнездом. Это тоже творчество и тоже искусство.
Я выбирала люстры, ковры, мебель, гонялась за каждой мелочью. Я обставляла свой дом по своему представлению о жилище. Прежде всего дом должен быть крепким, как у поросенка Наф-Нафа, который строил дом из камней. Должны быть широкие стены, дорогая малярка, смуглое дерево, вечная крыша. После этого можно покупать занавески и все остальное. А украшать развалюху – это то же самое, как брызгать французские духи на немытые подмышки.
Главное – базис, а потом надстройка.
История дома Павла Антокольского меня задевает до глубины души. Почему? Потому что усилия Зои Бажановой пошли насмарку. Буфет маркизы де Помпадур со временем ушел к соседям за бесценок. Ее уникальные деревянные скульптуры были сожжены во дворе. Дерево сухое, огонь поднимался столбом. Буквально – фашизм. Соседи спрашивали: «Зачем вы это делаете?» Им отвечали: «Некуда девать». Они жгли жизнь Зои.
Интересно, видела ли Зоя это пламя из своего царствия небесного? Хорошо бы – не видела.
Моя наследница – дочь. Не буду называть ее имя. Она этого не любит. Она вообще не любит никакой публичности.
Я складываю руки перед грудью, как оперная певица, и умоляю свою дочь:
– Не продавай мой дом.
– Когда?
– После меня. Здесь все мои деньги, все мои усилия, дом – это я! – продолжаю я свою арию.
– Не продам, – обещает дочь. – Я сама буду в нем жить.
Врет. А может, и нет.
– В крайнем случае: сдай. Но не продавай.
Дочь отмахивается. Ясно, что она будет жить в другое время, где будут другие реалии и другие дома. А мои книги сожгут в открытом пламени. Но не обязательно. Ведь они не занимают много места.
Единственная надежда на внучку. Она любит дачу. Она в ней выросла. Это ее родовое гнездо.
Павел Антокольский умер в 1978 году. Прошло сорок лет после его смерти. Антокольского не помнят. Его забыли. А Маяковского не забыли.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,