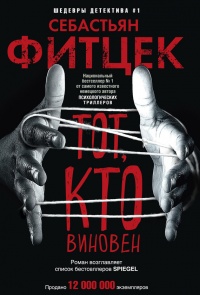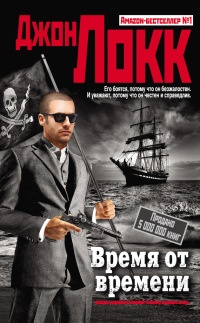Книга Комната 15 - Чарльз Харрис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из пивной выходят две смеющиеся пары, бросают взгляд в нашу сторону и спешат к своим машинам.
– Ну давай, – говорю я, – ударь меня, как раньше, со всей силы. Ударь, чтобы я смог ответить!
– Росс, тебе это не поможет, – говорит Джерри.
– Он не хочет, чтобы ему помогали.
– Мы делаем это ради твоего же блага, Росс.
– Знаете что? – с жаром говорю я. – Мне не нужно, чтобы кто-либо делал что-то ради моего блага. Я делаю людям добро, а они за это норовят пырнуть меня ножом в спину!
– Не понимаю, что за хрень ты несешь, – говорит Джерри.
– Оставь его! Пусть варится в сознании собственной правоты.
Я не понимаю, о чем говорит Пол. На стоянке тишина, лишь шелест машин по улице да звуки моего и Пола дыхания. Лицо у Джерри приняло жуткий оттенок; он ударяет кулаком по ладони и смотрит на меня с таким выражением, какое я еще никогда не видел.
– Ты отстранен от дела, – пугающе тихим голосом произносит Джерри. – И тебя больше никогда не будет в моей команде.
– Не говори глупостей, Джерри. Сколько лет ты меня знаешь?
Я не верю, что это происходит на самом деле, но он продолжает:
– Можешь забыть о рекомендациях и направлении на новую работу. Скотленд-Ярду придется обойтись без тебя. Убирайся с глаз долой, пока я сам тебе хорошенько не врезал! Проваливай! Я списываю все на то, что тебя шарахнули по башке, на те таблетки, которых ты наглотался, но я больше не желаю видеть тебя в своем отделе. Ты на больничном, после чего подашь заявление о переводе. Мне наплевать, с кем из отдела кадров мне придется ради этого переспать. Ты свободен.
– Засунь себе в задницу свой отдел! – отвечаю я.
Сажусь в «Хонду», хлопнув дверью – что, должен признать, является ребячеством, но мне от этого становится легче, – и уезжаю со стоянки под взглядами Пола и Джерри. У меня такое чувство, будто мне врезали в солнечное сплетение. Останавливается «Ягуар», пропуская меня на круговую развязку, и водитель приветливо машет рукой. Я ему не отвечаю. Я жалею о том, что Пол не попытался мне врезать, потому что я с огромным наслаждением врезал бы ему в ответ.
В висках у меня стучит кровь, и я уже собираюсь сделать круг, вернуться на стоянку и довести дело до конца, уложить их обоих на землю, своего родного отца – половину своих генов – и второго мужчину, которого я всегда хотел иметь своим отцом, альфу и омегу; тех, кто сотворил меня таким, какой я есть.
Но я этого не делаю.
Что я помню о своем отце? Я задаю этот вопрос, слушая свои собственные показания, стоя на месте для свидетелей, практически полностью отрешенный от происходящего вокруг. У меня в голове словно сидит какой-то архивариус, хранитель документов и записей, который решает, какие папки можно прочитать, а какие оставить нетронутыми, что принести из архива, а что оставить на пыльной полке, какие чувства ощутить, а какие нет.
Что я хочу помнить? Мгновения гордости: вид Пола в форме, фотографии с присвоением ему очередного звания, его награды. То, как он хвалил меня за успехи в школе.
Что я не хочу помнить? То, как он все больше и больше отдалялся от матери, лежащей в больнице, месяц за месяцем. То, как я валялся по ночам без сна, рассуждая о том, что Пол не мой родной отец. Мечтая о том, чтобы моим отцом был Джерри.
В день, когда умерла мать, шел дождь, но только порывами – промозглый день со слабой переменчивой моросью. Она пролежала в больнице год после того, как в снегопад приходил врач, и потом еще на шесть недель вернулась домой. Говорили, что лечение ей больше не требуется, только обезболивающие и постельный режим.
Затем однажды Пол сказал мне не заходить в ее комнату. Но я все равно зашел, пока он разговаривал по телефону. Тело матери лежало совершенно неподвижно, немигающий взгляд был устремлен в одну точку. Словно оно опустело, словно закончилась арендная плата.
Пол даже не предупредил меня насчет похорон. Думаю, он собирался обойтись без меня. Потом он говорил, что не думал, что это хорошо для маленького ребенка, хотя мне тогда было уже девять лет, почти десять, и я, хоть и маленький, почувствовал, что были какие-то другие причины: он опасался, что я как-нибудь подведу породу Блэкли – распла́чусь или выкажу детские эмоции. Но в любом случае через неделю после смерти матери одна тетка проговорилась по телефону, что похороны состоятся завтра утром, и я прямо спросил об этом у Пола. Он попытался отговориться, будто мне нечего надеть на похороны, однако понял, что проиграл.
На следующий день я нервничал так, как никогда до того. Не знаю, почему. Единственный человек, который действительно для меня что-то значил, все равно ничего не мог узнать об этом. Стоя у могилы, я чувствовал на себе взгляды собравшихся. Здесь были родственники, полицейские и Джерри с Изабель. Я смотрел в глубокую яму, куда должны были опустить гроб с телом матери, и чувствовал терпкий сладковатый запах свежевырытой земли. И вдруг неожиданно ощутил непреодолимое желание шагнуть вперед, в пустоту.
Это все, что я помню. Следующее мое воспоминание – мы три недели спустя в пять утра стоим в аэропорту Гатвик, я и Пол, и смотрим на ползущие на транспортере чемоданы. На табло написано, что это рейс из Тенерифе, Пол смотрит на меня так, словно задал мне какой-то вопрос, но я понятия не имею о том, что он спросил. И о том, чем занимался этот двадцать один день. Память была пуста.
Мною завладел Р.? Возможно ли, что он был там, внутри меня, еще тогда?
…Внезапно до меня доходит, что в зале суда наступила полная тишина. Присяжные выжидающе смотрят на меня. Судья подается вперед и спрашивает, не хочу ли я прерваться. Я качаю головой и стараюсь вспомнить, на чем мы остановились. Что было сказано и что, возможно, лучше оставить невысказанным.
14.30
Я поворачиваю в сторону больницы и проезжаю немного, пока не скрываюсь из виду, дабы убедить Джерри в том, что выполняю его приказ, но затем останавливаюсь у обочины. Руки у меня перестали трястись, но ярость никуда не делась.
Мне следовало бы вернуться домой к Лоре, но я боюсь встретиться с ней лицом к лицу. Боюсь того, что она скажет. Того, что я могу узнать о последних полутора годах. И есть еще «Приус», который я обещал ей вернуть. Здесь я также все испортил. Я испортил все, к чему прикоснулся за последний день.
До меня доходит, что я остановился напротив церкви, которая по-прежнему остается церковью, а не стала бистро или картинной галереей. В нее заходят люди, укутанные в теплые пальто и шарфы. Я остаюсь в машине и разглядываю здание – луковица, скорее готический атавизм, чем историческая ценность, водруженная на большую распластавшуюся жабу. У меня в сознании есть какое-то погребенное воспоминание, жаждущее подняться на поверхность, но я не знаю, как до него докопаться. Снова это ощущение, что я мог бы вспомнить, если б знал, как. Опускаю голову на руль, словно в молитве, и ощущение неуклюже отступает, будто я пытаюсь мыслить не в том направлении, будто мой мозг работает в обратную сторону.