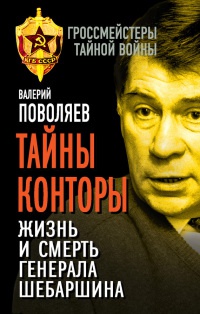Книга Валерий Ободзинский. Цунами советской эстрады - Валерия Ободзинская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Первым опомнился Сима Кандыба.
– А что вы так встрепенулись-то? Позвали только Ободзинского. Или думаете, там уровень филармонии? Валера замолвит слово, и возьмут всех?
Вдруг обрушилась тишина. Ребята одновременно замолчали и нахмурились. Валера, словно обороняясь, начал частить:
– Я не могу от такого отказаться! У меня Неля. Она давно ждет нормальной жизни.
Ребята молчали, не перебивая, но и не успокаивая. В голове метались едкие мысли, что пока его никуда не пригласили. Только велели ждать. Самое время рассказать, как прошли прослушивания. Это разрядило бы обстановку. Услыхав, насколько мизерны шансы, что его действительно позовут, ребята снова станут болтать, шутить, строить планы.
Валера открыл рот… и промолчал. Что-то мешало. Некое суеверное опасение. Будто если расскажет, станет неудачником. Тем, кого обязательно отвергнут.
Ребята хмурились. И Валера чуть агрессивно стал наседать:
– Я семью хочу. Дом. Детей. Это редкий шанс перескочить несколько ступенек сразу!
Сима хлопнул по плечу:
– Кто-то тебя ругает? Обвиняет? – Кандыба внимательно посмотрел в глаза. – Просто это и для нас все меняет. У нас тоже есть мечты. Пусть мы и не Ободзинские.
Гольдберг поспешил поддержать друга:
– Не парься, Валерик. Мы переварим все и успокоимся. Это жизнь. Все случается.
Валера обрадованно ухватился за эту поддержку:
– Я как раскручусь, сразу оповещу!
Однако его осадили скептический взгляд Кандыбы и выпад Ваймана:
– А ты Макаровой с Муратовым уже сказал? Нет? Думаешь, им понравится номер, что ты с Рафой провернул? Сам ушел, нас увел? С ним-то ты разругался, а Макаровой такое за что?
Валера растерялся. Казалось, такой выход: со временем забрать ребят с собой… но действительно, а как же Валентина Федоровна? Не может он разваливать филармонию, чтобы остаться «своим парнем» для музыкантов.
Гольдберг снова попытался снять напряжение:
– А ты к кому пойдешь-то? К Рознеру или Лундстрему?
– К Лундстрему. У Рознера уже дали понять, что буду на птичьих правах. И образование не то, и фамилия, и одессит. Формализм процветает.
– Оно и понятно. Однако и уровень выше: телевидение, кино, фестивали.
– У Лундстрема не хуже, но Олег Леонидович, – замялся, пытаясь подыскать слова, Валера. – Другой он. С достоинством.
Сидеть и пить квас расхотелось. Ребята разошлись.
Ничего. Завтра все успокоятся. Он поговорит с Макаровой. Расскажет. Не сегодня. Завтра. Все завтра. Он почти бежал по парку. Только тревоги бежали рядом и не хотели отставать.
– Валера! – обрадовалась Валентина Фёдоровна, когда он нагрянул к ней вечером.
Валера кивнул и сел в кресло возле квадратного журнального столика.
– Мне предложили работу. – Глаза поднимать не хотелось. – В оркестре Лундстрема.
Валентина Федоровна замерла, ссутулилась, отвернулась к тумбочке и достала зеленую коробку «Чай. Сорт первый». Заварила, разлила по стаканам.
Молча распили чай.
Наконец взглянул ей в лицо. Губы поджаты, на лбу сердитые складки:
– Ты говоришь мне об этом вот так?
Это оказалось неприятно и неожиданно. Макарова всегда носилась с ним, как мать. Ласкала, подбадривала, прощала. Он чувствовал себя виноватым, потому что рассчитывал на поддержку. Думал, пожурит, но пожурит ласково, а потом пожелает удачи. Даст советы, напутствия. Обиды, негодования, злости Валера не ждал.
– Мама… – пытался вернуть утраченное Валера. – Мама! Я же должен расти!
– Мама? – Валентина Федоровна словно попробовала слово на вкус. – Да. Я к тебе относилась, как к сыну. А ты вот так… просто выбросил посреди дороги.
Валера скомкано попрощался и ушел. Идея пришла в голову Гольдбергу:
– Надо проводить честь по чести! Чтоб запомнилось!
Днем на Дерибасовской в Летнем парке народу собралось тьма. Маховик событий набирал обороты. Из Москвы никаких новостей, а Валера дает прощальный концерт! Пришли родственники, знакомые, соседи, пацаны с Ланжерона, Соборки, Портклуба. С третьего ряда широко улыбались Вилька и Гном.
Сердце Валеры в тревоге сжималось. Концерт обозначал черту: пора! Пора ехать в Москву! Ведь он сказал, что взяли к Лундстрему, к Рознеру. И зачем? Зачем сболтнул это? Почему не дождался телеграммы? Испортил отношения с Макаровой, ребятами, заставил Нелю мечтать? Она постоянно бегает по магазинам и рынкам, покупает наряды для Москвы. А если телеграммы так и не придут? А они скорее всего и не придут. Никто ничего не обещал, не говорил, не обнадеживал. Это здесь он звезда. А в Москве таких много! Гольдберг прервал самоуничижение, вытолкнув на сцену.
Валера безмолвно окинул глазами публику. На него смотрели с восхищением и теплом. Только в Одессе так смотрели. Потому что здесь он не певец Ободзинский, а Цуна. Если оступится, подхватят, подбодрят, поймут.
– Пой уже, Цуна! Пой! – закричал кто-то…
И Валера запел, вкладывая всю благодарность и любовь к городу у самого Черного моря, в свое пение. Чистый, словно из поднебесья, тенор то нарастал, как рев бури, то смиренно стихал, как морской бриз, проникая в сердце каждого.
Во время выступления небо разразилось ливнем, однако никто будто и не заметил. В этот миг Ободзинский жалобно начал песню о больном портном:
– Di shtub iz kleyn, di shtub iz alt, In yedn vinkl mist un koyt.
Зрители смотрели, не отрываясь. Снаружи они дрожали от холодных капель, а внутри сжимались от боли, исторгавшей из сердец щемящее чувство сострадания. Оно нарастало звенящей бездной, раздирало душу, а затем… история оборвалась с последней строчкой куплета. Слезы смешались с дождем, повисла долгая пауза, и воздух взорвался аплодисментами.
После концерта одесская шпана заполонила улицы, провожая своего Цуну. Каждый норовил подойти ближе, протиснуться.
– Я горжусь, что знаю тебя, – искренне признавался Вилька.
– Люди, это наш Цуна идет, Цуна Ободзинский. Он лучший, – задорно кричал прохожим Шурик, – вы еще услышите о нем!
Неожиданно Валера узнал фигуру Макаровой. Она стояла поодаль, теребя на шее шелковый узорчатый шарф. Валера раздвинул толпу и подошел.
– Валера, – она взяла за руку, – ты звони, хорошо? Не забывай.
Валера крепко обнял:
– Вы же мне, как мать. Да и что значит, звони? Я в Москву еду! Соседями будем!
Казалось, все хорошо. Даже Макарова простила. Однако Валера чувствовал себя приговоренным к смерти. Представил, как меняются лица друзей, Макаровой, Муратова, когда он сообщает, что в оркестр так и не взяли. Что он трепло и хвастун! Неудачник! Посредственность!