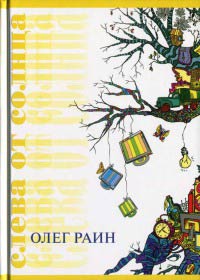Книга Альпийский синдром - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Надлежаще оформили?
– Все чин чинарем: протоколом осмотра места происшествия. Ильенко составляет…
– Ладно, – сказал я, – работайте. А меня пусть кто-нибудь проведет на место, где труп нашли, потом – к дому подозреваемого. Почти рассвело, вот и осмотрюсь, что да как. Что, левада?.. Пройти можно или вокруг вода?..
В сопровождающие мне был предоставлен участковый, уже успевший опросить свидетелей и теперь куривший за углом сельсовета с привезшим меня сержантом. Был он в помятом и как бы припорошенном пылью кителе с лейтенантскими звездочками на погонах, глядел равнодушно, ступал вялой и медлительной, верблюжьей походкой. Минуя кафе с темными окнами, слегка подсвеченными отраженным в стеклах небом, участковый обогнул большую лужу посреди улицы и свернул на тропинку между огородами.
– Ночью был дождь, – как говорят с самим собой глубоко погруженные в себя люди, бубнил он, позевывая в кулак. – Но уже подсохло: у нас песок… Только возле ручья глина, и то – больше намесили сапогами… В дождь к нам в туфельках ходу нет… Вот же Каплун, вот подлюка!.. Под ноги смотрите: он незаметный, ручей…
Тропинка юркнула между кустами бузины, резко свернула в сторону, и на ее изгибе я перепрыгнул через текучую ниточку ручейка, такую тихую и сонную, что даже журчания воды я не услышал. Здесь, на прогалине между плакучими вербами, я увидел примятую траву и запекшееся ржавое пятно там, где еще недавно вдавливалась в землю откинутая мертвая голова.
– Здесь, – подтвердил мою догадку участковый. – Баба Зина нашла…
В ответ я раздумчиво и важно покачал головой, хотя, по правде говоря, осматривать было нечего: ни сломанных веток на кустах, ни следов борьбы, ни каких-либо вещей или подозрительных предметов. Оперативная группа здесь все обшарила до меня. Но раз уж я приехал…
Закрыв глаза, я на мгновение представил человека, идущего домой под летним моросящим дождем, услышал тишину ночи, влажный шорох листьев и даже уловил биение о песочные берега малокровного ручья. Во всем этом была жизнь, потом вдруг удар, и жизни не стало. Как? За что? Почему?
– Гхм! – кашлянул где-то рядом участковый, и мы пошли дальше.
В окнах хибарки Каплуна, глинобитной, одним боком похилившейся и словно присевшей, тлел тусклый, чахоточный огонек. Пригнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку, я вошел в хату. Здесь было затхло и убого, будто в погребе или заброшенной звериной норе. В единственной комнате, отделенной от кухни облупленной грубкой, потолок с растрескавшимися от времени сволоками нависал так низко, что мне все время хотелось втянуть голову в плечи. Крохотные окна могли бы показаться слепыми, если бы не трещины на стеклах, заклеенные рыжими газетными полосами. Над одним из окон завис на гнутом гвозде карниз с единственной уцелевшей занавеской. Земляной пол местами был присыпан трухлявой соломой. На продавленной кровати съежилось одеяло, под ним темнел засаленный матрас без простыни и подушка с наволочкой, сквозь марлевое полотно которой высовывались куриные перья.
Заглянув по пути на кухоньку, я увидел на плите закопченный чугунок и горку грязной щербатой посуды на табурете. Помойное ведро, укрывшееся за дверью, шибануло в нос зловонным, прокисшим запахом. Тут же стояли резиновые сапоги с обрезанными голенищами, а на гвозде, вколоченном в двери, висели пиджак без одного рукава и расплющенная, в масляных пятнах и потеках кепка.
Посреди комнаты сидели за столом Ильенко и молодой опер из угро и заканчивали составлять протокол осмотра места происшествия. Увидев меня, опер вскочил, Мирон Миронович же слегка оторвал сухой зад от табуретки, на которой сидел, вяло пожал мне руку и снова уткнулся в бумагу.
– Топор где? – спросил я у обоих сразу, и Ильенко взглядом указал на полиэтиленовый пакет, прислоненный к печке, сквозь который просвечивал темный изгиб деревянного топорища.
Тут входная дверь заскрипела, и в хату протиснулся майор Савенко.
– Все здесь? – громыхнул он, потирая руки и посмеиваясь глазами. – А ведь я говорил… Сознался субчик! Тюкнул кума за пятьсот деревянных! За пятьсот! То есть как? А вот так! Заказное убийство. Уже ведут, покажет, где бабки спрятал…
– Заказал кто? – спросил Ильенко, склонив набок голову и наставив хрящеватое ухо. – Мотив какой?
– Баба. Живет неподалеку, фамилия Кирьякова. У нее сын был, так этот сын с Тютюнником года три тому повздорил, до драки у них дошло, а потом сгинул – так и не нашли, куда подевался. Вот Кирьякова и решила: сына убил наш покойник, убил и закопал, и подговорила Каплуна, чтобы кума напоил и – к праотцам… Пока они на эти бабки выпивали, топор в кустах возле тропки дожидался. Этот Каплун знал, что кум всегда через лесополосу домой ходит, пристроился позади и, когда тот надумал малую нужду справить, обухом и приголубил.
– Вот оно как! – обвел брезгливым взглядом комнату Ильенко. – Опять деньги!
– Говорит, зарплату давно не платят, а жрать-то хочется.
В окно постучали. Во дворе стояли Дмитриевский и водитель-сержант, а между ними – Каплун, рука которого была скована браслетами с рукой сержанта. Вид у убийцы был поникший, глаза провалились и ничего, кроме обреченной покорности, не выражали. Подошли понятые, и тогда только он вздрогнул и на вопрос о деньгах понуро кивнул в сторону сарая:
– Там, в пакете, за поленницей дров…
Деньги достали, пересчитали, – всего оказалось 428 гривен.
«Такая ничтожная сумма – за человеческую жизнь! – подумал я, глядя на измятые купюры, разложенные перед нами на пакете. – Но и жизнь у них у всех в забытой богом Вербовке немногим дороже. Как и эта мазанка, эта постель, это ведро в углу, эти кони, так же оголодавшие, как и люди…»
– Поди-ка ты, Петро, за Кирьяковой, – велел участковому Савенко, а меня взял под руку и шепнул: – Как мы с вами сработали? Прихватим сейчас бабу, и самое время – по чарке!
Ну уж нет! Пить с тобой сегодня я не стану! И не скоро, наверное, я с тобой буду пить…
Десяти минут не прошло, как участковый вернулся, подталкивая перед собой мосластую темноглазую женщину с седой прядью, выбившейся из-под дешевой капроновой косынки. Оглядев нас, сумрачно и недобро, Кирьякова перевела взгляд на Каплуна, на его прикованную руку, покривила в ухмылке рот:
– Что, сдался? Денежки спустил? Погулял напоследок?
Был поздний вечер. За окнами зажглись первые фонари. Свет их был неярок и тускл, наподобие спитого чая, но с каждой минутой он становился все ярче и контрастнее, тогда как за размытым ореолом фонарных ламп уже сгущалась понемногу бледно-фиолетовая, все еще прозрачная мгла.
Оставшись с Ващенковым вдвоем, мы сидели в полутемном кабинете и вполголоса разговаривали. Полчаса назад гости из Пустовца – полковник милиции Кривоногов и советник юстиции Корнилов – уехали. Приятель Ващенкова, бывший директор межрайбазы Осипов, нагловатый тип, похожий на подтоптанного грузина, заглянув незадолго перед тем на огонек, умчался вслед за гостями по каким-то своим неотложным делам. И я засобирался, но Ващенков удержал меня за рукав.