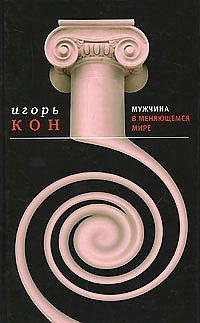Книга Проблемы социологии знания - Макс Шелер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Своего рода принцип относительности не только исторического познания и исторического оценивания, но и самих исторических фактов и заключенной в них ценностной определенности, а также сущностной незавершенности и смысловой изменчивости исторических фактов впервые был сформулирован мной в работе «Покаяние и возрождение»[247]. После того, как в ней проводится различие между сущностью физической причинности и переживаемого времени, всегда распадающегося на три неведомых для объективного физического времени измерения – «настоящее» (сфера восприятия), «прошлое» (сфера непосредственного воспоминания), «будущее» (сфера непосредственного ожидания), – там говорится буквально следующее: «Исторический факт никогда не бывает готовым, он всегда как бы спасаем. Конечно, все, что в смерти Цезаря относится к событиям природы, готово и неизменно, подобно солнечному затмению, которое предсказывал Фалес. Но то, что составляет в нем исторический факт, т. е. все, что в нем относится к единству смысла и действия в хитросплетении смыслов человеческой истории, – это бытие неготовое, готовое же оно лишь в конце мировой истории».
Высказанную здесь идею относительности так-бытия, смысла и ценности самого исторического факта и бытия – а не только их исторического познания и познаваемости, – т. е. их соотнесенность с изменчивой позицией исторического наблюдателя в переживаемой им истории, первым воспринял и по достоинству оценил в своем «Историзме» Эрнст Трёльч, однако он не понял эту идею во всей полноте ее значении. Тем больше у меня оснований выразить радость по поводу того, что она неожиданно – не знаю даже, связано ли это с моим субъективным влиянием или происходит независимо от меня – высказывается ныне многими исследователями, хотя и не всегда с одинаковым обоснованием, зато довольно точно и определенно: например, она была высказана почти одновременно Эдуардом Шпрангером[248], более резко – Теодором Литтом[249], вполне определенно – Карлом Мангеймом[250], наиболее радикально – Вильямом Штерном[251]; кроме того – Николаем Гартманом[252]. Так, Мангейм говорит: «Исторический предмет (например, историческое содержание эпохи) сам в себе тождествен. Но к сущности его опытной познаваемости принадлежит то, что его можно постичь только с различных исторически-духовных позиций как бы в определенном аспекте». Еще дальше идет В. Штерн: «Деяния Наполеона не только по-разному выглядят в глазах немецких и французских историков – в историчности французского народа они входят в другие объективные структуры и имеют иные акценты, чем у немецкого народа». Так называемое объективное положение вещей, «как было на самом деле», для Штерна есть лишь пограничное понятие, сырье в отношении определенного порога и моделирования, еще не приступившего к его применению, чтобы отделить исторически ценное от неценного и структурировать его внутри себя. Например, историческое событие «Реформация» хотя и имеет, согласно Штерну, свою современно-историческую ценностную структуру, но кроме того она имеет всякий раз иную – определенную, необходимую объективно-однозначную – смысловую и ценностную структуру в свете более поздних стадий возможного рассмотрения, ибо означает для самих этих стадий нечто новое и разное (в онтическом смысле). «Как ни парадоксально, но и прошлое может быть пластичным (т. е. доступным для меняющихся влияний), а не только будущее. Окаменелая неизменность того, что было, характерна скорее для естественно-научной абстракции, но не для истории. Платон и Аристотель, Иисус и Гёте еще и сейчас постоянно меняются, как настоящие исторические потенции, продолжая развертывать смысловые связи и значимости, чуждые их времени, да и им самим». Таким образом, для Штерна такие соответствующие какой-нибудь определенной психофизической организации «изменчивые» смысловые и ценностные содержания, которые мы называем историческими фактами и которые только и имеем право так называть, существуют в такой же малой степени, как и для нас, – лишь во всякий раз различных степенях адекватности исторического познания или вовсе в разного рода вторичных пониманиях смысловых связей. А между тем историки склонны выдавать их за «общезначимые ценности», как если бы предсуществовал некий однозначный фактический материал, из которого оставалось бы только что-то «выбрать» (как у Г. Риккерта). Не одно наше познание (имеющее свои собственные ступени относительности) «исторического факта», но и он сам существует только относительно бытия и так-бытия – а не просто одного «сознания» – наблюдателя. Существует лишь метафизическая, но не историческая «вещь в себе».
Исторический факт конституируется в падающих на него лучах воспоминаний и в совпадении их интенций, причем «источники» и опосредствованные «памятники» суть не более, чем объективированные носители символической функции возможной воспоминаемости. Но так как сфера опосредствованных воспоминаний в сущности всегда зависит от лежащих в сфере непосредственных воспоминаний динамических направлений интереса и обусловленного ими внимания, а они, в свою очередь, – от действующих живых систем ценностных предпочтений, определяющих наблюдателя в силу его позиции в реально переживаемой им истории, то сущностно относительны сами так-бытие, ценностное бытие и смысл исторического факта – а не только их рефлексивное историческое познание, предметом которого является исторический факт. А поскольку живые системы ценностных предпочтений уже из-за их возможного эмпирического содержания одинаково напрямую определяют как сферу непосредственных, так и сферу опосредствованных воспоминаний, то историческая перспектива и соотносительный исторической фактичности «аспект», его «моделирование» (как говорит Штерн), его включенность в сменяющие друг друга стадии живой реальной истории и его охваченность ими также всякий раз должны меняться одновременно вместе с ожиданиями будущего и их идеальными конструкциями в форме новых «культурных синтезов» (Э. Трёльч). Именно в этом неделимом процессе и акте меняются историческая реальность и культурный синтез. Этот вопрос не имеет ничего общего с объективностью исторической науки и однозначностью исторического факта в свете конкретной позиции. Как требования они, разумеется, сохраняют свою силу вместе со всей методологией исторического познания. Но пресловутый историзм как мировоззрение – вернемся к нему еще раз, – а также дурная криптометафизика, оккупировавшая все подлинные метафизические проблемы, благодаря этому взгляду надолго искореняются. Готовый релятивировать все познание историзм, начавший с метафизики (Дильтей), а потом перешедший к позитивной науке и математике, и наконец даже к собственному познанию (Шпенглер), посредством этого взгляда релятивирует сам себя. Он превратил историю в «вещь в себе» – но что это может означать, кроме придания исторической действительности «метафизического смысла», а ее познанию – метафизического значения? Если же, как мы писали ранее[253], одновременно все исторические миры положительных благ будут относительными, т. е. соотносимыми (relativ auf) с абсолютным порядком материальных ценностей, то тогда будут также относительны сами историческое так-бытие и ценностное бытие.