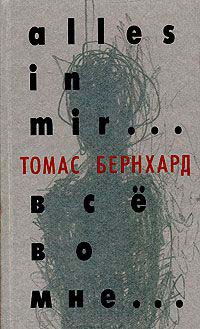Книга Исповедь еврея - Александр Мелихов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У них не было даже мод, своей переменчивостью разрушающих Единство с предками: их гордый мундир был раз и навсегда завещан Верой Отцовой: летом – лоснящаяся атласной чернотой майка со свернувшимися в черные жгуты лямками на плечах (одна могла быть оборванной, это допускалось), осенью, весной – серая туальденоровая рубашка или вельветка с продранной подмышкой (обязательно левой). Вера Отцова требовала, получивши новую вельветку, наступить на нее и как следует рвануть за рукав. Если рукав отрывался целиком, Вера Отцова, словно Омфала Геркулесу, приказывала воину взяться за иглу.
После Бани детдомское Мы несколько размывалось проступившими неповторимостями, и все же в Клубе Детдомцы, словно пеплом, покрывали особый квадрат, к которому чужак не помышлял и приблизиться. Перед кином бетонные перила клубной лестницы Иакова тоже были до самых небес обложены шевелящимся серым слоем, над которым волновались окропленные бриллиантовой зеленью деформированные арбузы. Тронь одного – как воронье подымутся, дивилась молва, но самолично этого никто не видал (те, кто видел, уже не могли рассказать). У Детдомцев с нами и не могло быть столкновений, как у каких-нибудь, скажем, кавалергардов с немцами-колбасниками. «Почему все друг за друга стоят – одни мы не стоим?» – сокрушались эдемчане по поводу обретающихся среди них (нас) малых племен, и только теперь я могу ответить: «Потому что тех, кто не стоял, вы (мы) уничтожили».
Сколько извели гусей на перья и березок на монографии, чтобы уяснить наконец, что такое народность поэта – описание она сарафана, или способ чувствования (поэт, чувствующий как все, заведомо никуда не годится), или – гром и молния! – «кровь и почва», или еще что-то.
Ответ знаю только я, отверженец: народно то, чем укрепляется Народ. То есть Единство. То есть Отчуждение. Народен тот поэт, во имя которого готовы убивать те, кто не способен понять ни единой его строки, – вот формула подлинной народности.
Когда за несколько игривых слов о Пушкине смертоносно серьезные люди печатно сожалели, что в наше время уже не убивают за поругание святынь, – я понял, что Пушкин действительно народен. Интересоваться же, читают ли его массы… да разумеется, нет, как и никого никогда они не читали (по доброй воле). Всегда смотрите на соль Народа – на его фагоцитов – они мудро обеспокоены прежде всего неприкосновенностью объединяюще-отторгающих символов: знаменами и названиями.
Падение великого Народа началось с того, что он переменил название – Детдомцы стали зваться Интернатцами. Ну и, конечно, приток чужаков, имеющих родственников за грани… – за пределами реорганизованного интерната. А в довершение несколько наиболее именитых граждан заняли подобающее им место на тюремных нарах, а сердце великой безымянности составляют все же люди с именем. Разврат дошел до того, что кое-кто там позволил себе иметь прореху под правой подмышкой, а то и обходиться без оной… И могучее Мы распалось на комариный сонм бессильных «я», погибшее Единство сменилось растленным разнообразием.
Это было началом конца, сказал бы я, если бы это не было самим концом. Конечно, частные лица, некогда составлявшие Народ, по-прежнему пили, ели, смеялись и плакали, но Народа, то есть Единства, уже не было: в каждом деформированном арбузе сделалось главным не общее, а неповторимое, не арбузность, а особенности деформации.
Мы с Вовкой зашли в клубный предбанничек за час до сеанса. Там стояли трое Интернатцев – поменьше нас, но три на два – это было в самый… однако к Детдомцам нам и в голову бы не пришло примериваться. А эти были к тому же с чистенькими рожицами – один, максимум два лишая на троих, – да еще и в пионерских галстуках, да еще и отглаженных, воспаряющих невесомыми крылами. Самый веселый интернатец накрыл алым крылом забиячливую физиономию, приоткрывая то один, то другой смеющийся глаз.
Вовка дернул дверь в кассу. «Закрыто», – сказал он мне скованным голосом. «Закрыто», – повторил веселый, накрываясь галстуком с головой и раздувая его, как алый парус. Вовка вопросительно глянул на меня. «Пошли отсюда», – сказал еврей во мне. «Сейчас или никогда», – понял эдемчанин. «Зайдем через полчаса», – угрожающе сказал мне Вовка. «Зайдем через полчаса», – упавшим голосом повторил озорник, чувствуя, что совершает непоправимое.
Ляп! Ладонь у Вовки была твердая, как у плотника. Галстук прилип к щеке. «Ты чё-о?..» Ляп снова! Алое крыло отклеилось и начало планировать книзу. «Да чё т-ты?!» Ляп! Голова мотнулась, как воздушный шарик от щелбана. «Еще слово скажешь – еще получишь!» – с каким-то даже суровым участием предостерег Вовка.
И весельчак промолчал. И мы ушли. И все это не имело никаких последствий. Старые добрые Детдомцы не могли бы такого представить и в страшном сне.
Дальше: урок труда – советского, бессмысленного. То есть нужный для жизни, правильный урок. Мы с пацанами на школьном косогоре долбим ломами каменный «наполеон» для ежегодной братской могилы заранее иссохших, подобно маленьким корягам, тополевых саженцев, а за забором куда-то бредет ватага разрозненных Интернатцев. Я принципиально не помню, кто начал и с чего («Проткнем щепкою толстое брюхо вашему князю!»), – главное, в какой-то миг нас охватило чувство, в отношении Детдомцев невозможное, – негодование. «А ну, ребя!..» Чувство Правоты можно ощутить только в Единстве с кем-то – это виноватым чаще всего бываешь в одиночку.
Мы ринулись вниз, но когда первый из нас занес ногу через штакетники, Интернатцы кинулись врассыпную, теряя остатки Единства. Сердце победы – наше Мы – оказалось прочнее.
Интернатцам уже сделалось опасно появляться в Эдеме числом меньше десяти, а в одиночку они почти наверняка подвергались справедливому возмездию. Мы их били ради восстановления справедливости, а они нас – из злобы и подлости. И чем справедливее делались Мы, тем гнуснее бесчинствовали Они.
Концентрация нашего Мы в Казаке достигала вулканического напряжения, ударяя гейзером в слабых местах. Он входил в туземный поселок на сваях, сдвинув на затылок пробковый шлем и положа руку на верный «кольт». К его китайским кетам прямо-таки просилась кошачья (тигриная) поступь… и группка Интернатцев, рассредоточиваясь (раз-Мы-каясь), угрюмо отступала, когда он, крадучись, приближался к ней и успевал последнему (самому гордому, а потому опасному) засадить пяткой в поясницу (по почарам), а если тот, акробатически прогнувшись, на его несчастье, все же удерживался на ногах, то получал та-ах-какой крюк по скуле…
Один из неодетдомских пассионариев попытался (сварка взрывом) спаять новое Мы, но сумел только выделиться из Безымянности: мы стали знать, что его кличут Лобком. Не для смеху: у нас Лобок – это был просто лобик. Его иногда звали и Лбом – Интернатцы для почтительности, наши – для презрения: любили показывать друг другу, как Лоб сумрачно гудел – жаловался Казаку на Казака же: «Че ты все время по голове бьешь?..» А куда вы бы стали бить Лба, чтоб попасть не по Лбу?
«Люди с темной кожей во всем мире хорошо знают кулак белого человека», – с беспощадностью, даруемой лишь причастностью к великому Мы, с беспощадностью, с которой цитируют лишь божественное писание, напутствовал себя Вовка словом Джека Лондона. Здесь Вовка оказывался большим евреем, нежели я сам, ибо для него самым великим Мы являлась великая англо-саксонская раса Джека Лондона и Волка Ларсена, а я твердо знал из Станюковича, что именно русские, а вовсе не американские матросы были грозой портового сброда на всех пяти материках.