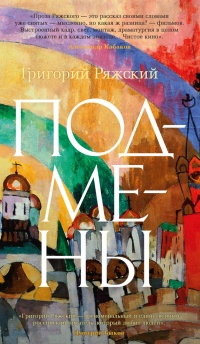Книга Колония нескучного режима - Григорий Ряжский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Потом они ещё долго лежали, прижавшись друг к другу. Когда поднялись и оделись, Гвидон подвёл промежуточный итог:
— У меня тут ещё куча дел, думаю, до октября примерно. Буду постоянно мотаться в Москву — обратно. Цеховые у меня дела там, прорабатывать детали скульптуры потребуется, сама отливка, сварка, зачистка, зачеканка швов, обработка бронзой, патинировка. А на место материал ещё для постамента подвезти должны: гранитную облицовку опять же класть, надпись долбить, монтаж, всё такое. Короче, мы сейчас прогуляемся с тобой в Жижу, там повидаешься с Тришкой, и уж дальше как сами решите: можешь жить здесь, со мной, а можешь у них. Думаю, Шварц тебя не выгонит. В общем, пока таким макаром.
— Кем? — не поняла Приска. — Каким макаром?
Гвидон шутливо отмахнулся:
— А ещё мечтаешь нашу классику переводить. Эх ты, горе ты моё нерусское…
В итоге сестры решили так. Жить Приска это время будет у Шварцев, в гости ходить — к собственному мужу, а что будет ближе к зиме — покажет время.
Потом в избе-пристройке пили заваренный Юликом правильный индийский чай. А ближе к вечеру Триш сыграла им, старшей сестре и мужу, дипломные «Картинки с выставки» Мусоргского. На идеально настроенном старом «Бехштейне». Картинки плыли над жижинскими крышами, над не заваленным ещё Прасковьиным амбаром, над будкой Ирода, над будущим палисадником перед недостроенным домом художника Юлия Шварца и его жены Патриции Харпер-Шварц… и уплывали дальше, на юг, ближе к Хендехоховке, откуда Фрол, попугивая скотину ленивыми щелчками кнута, гнал с выпаса уставшее стадо, чтобы прогнать его вдоль глиняного оврага через затихшую, почти вымирающую к ночи Жижу. Для полного счастья не хватало лишь Гвидона. Это понимали все, но не все позволяли себе об этом лишний раз подумать.
Открытие памятника пришлось на конец сентября. К началу учебного года не получилось — цех обещаний не сдержал, а дополнительно подмазать для ускорения дела было уже нечем, аванс весь вышел — часть денег ушла на закупку материалов под весеннее строительство дома и фундамент. Место для дома Приске понравилось. И Шварцы напротив, хотя придётся каждый раз обходить овраг слева или справа и к саду теперь будет ближе, не так утомительно будет мешки с ничейными яблочками таскать. И колонка водяная уже стоит, прямо перед избой. Осталось дождаться конца апреля и строиться по образцу дома напротив, куда Шварцы уже успешно перебрались. Дом стоял под крышей, с разведённым печным отоплением, с готовой для работы мастерской. Оставалось немного дообставить. И смело можно жить круглый год.
К открытию «Детей войны» подтянулась вся местная власть: исполком, райком, отдел культуры, отдел народного образования. Приехала пара шишек из Малоярославца и одна шишка из самой Калуги, из ОБЛОНО. Тут же находился и автор проекта. С женой-иностранкой и её сестрой.
Детдомовцев построили по линейке, всем составом воспитанников. Клавдия Степановна, гордая, светящаяся неподдельным счастьем, и как директриса, и как прообраз бронзовой защитницы, сказала речь. Мол, дети войны, сироты, которых взяла под своё родительское крыло Коммунистическая партия, советская власть, советский народ и лично районный комитет КПСС, отныне будут жить и помнить, кому они обязаны своим замечательным настоящим и не менее прекрасным будущим. Затем по паре слов сказали шишки, после чего попросили выйти из строя Ниццу, девятилетнюю воспитанницу Наташу Гражданкину.
— Гражданкина? Ницца — она что, по фамилии Гражданкина? — негромко переспросила у мужа Приска. — Знакомая фамилия. Как будто слышала уже.
Гвидон приложил палец к губам и прошептал:
— Вряд ли. У неё мать убийца. В лагере родилась. Представляешь? Ладно, потом…
И отмахнулся. Надо было ещё придумать, что говорить у памятника, так чтобы и не унижаться, и не казаться самому себе идиотом.
От Ниццы тоже ждали слова, как, мол, самой-то такая честь? Оправдаешь? Плюс «Спасибо партии за это». Речь была отрепетирована с Клавдией Степановной и выучена наизусть. Ницца вышла, помолчала, поковыряла носком ботинка землю, после чего загадочно улыбнулась, пожала плечами и выдала:
— По-моему, я справилась. Если чего, могу ещё постоять. И ещё спасибо Гвидону. Он хороший и смешной.
И вернулась в строй. Ребята грохнули. Девочки прыснули. Директриса стояла с вытянувшимся лицом, в лихорадке меняя его цвет с красного на белый и наоборот. Шишки пожали плечами и, кажется, мало чего поняли. Оставался Гвидон. Чтобы не усугублять дурацкую ситуацию и понизить градус, он вышел вперёд, встал перед памятником и объявил:
— Хотел речь сказать. Вот, бумажку заготовил. Но решил — не буду. Мне кажется, пусть лучше говорит памятник. Сам за себя. И за детей Великой Войны. И Великой Победы.
Все зааплодировали, и Гвидон резким движением сорвал с памятника ткань. И тогда все воочию увидали бронзовую Клавдию Степановну и прижавшуюся к ней бронзовую Ниццу. И зааплодировали ещё сильней. А громче всех — Приска и Триш. К ним прокралась Ницца и толкнула Приску в бок:
— Нравится, как мы с Гвидоном постарались?
Обе обрадовались. Приска погладила маленькую героиню по голове и спросила:
— Придёшь к нам в Жижу? В выходной. В гости.
— Ну, если зовёте, — по-деловому отреагировала девочка. — Пусть Гвидон Клавдию Степанну попросит. Если разрешит, тогда приду.
Однако разговор этот забылся в суматохе прочих дел. Сама Ницца после своей бесславной речи была сурово наказана. Директриса продержала её в запертом чулане двое суток, на каше, сваренной без соли и сахара, и на воде. Заперев дверь чулана, прошипела:
— Ещё попомнишь меня, зассыха.
Гвидон об этом узнал, сжал зубы от гнева, но решил не влезать, потому что предстояло ещё идти к этой суке с просьбой не разбирать мастерскую, а разрешить передержать работы и пользоваться ею до конца будущего лета. Что ему и удалось.
В итоге свой первый гостевой визит к Иконниковым Ницце удалось совершить лишь в середине следующего лета, пятьдесят шестого года, когда дом супругов Гвидона Иконникова и Присциллы Иконниковой-Харпер приблизительно напоминал то, что ровно год тому назад имели супруги Юлий Шварц и Патриция Харпер-Шварц возле реконструированной Прасковьиной избы. Только мастерская у Гвидона была несколько больше, но тоже с размашистым полукруглым эркером и большими двухсветными окнами. В тот день он перевозил свой скульптурный скарб из детдома в Жижу. В принципе, уже можно было жить. Приска и так практически постоянно, начиная с апреля, жила в жижинском доме сестры. Сама Триш, наслаждаясь своей первой зимой в Жиже, подумывала о том, чтобы затеять лыжные прогулки. Вечерами играла на «Бехштейне». Юлик в такие вечерние часы млел. В эти дни он начал серию большеразмерных работ маслом на холсте: крупный мазок, размытый сюжет, чаще натюрморт, исключительно светлые тона, преимущественно белые. То, что он делал, нравилось не только Триш. Нравилось самому. И это его удивляло и воодушевляло. Впервые не подумал, как будет продавать, было все равно. Хотелось писать и писать. И слушать «Бехштейн» по вечерам. И каждую ночь любить жену, обмирая от счастья и везения в удавшейся на славу жизни. В материнскую квартиру иногда звонил, из Боровска, днём, так, чтобы звонок попадал на рабочий день и трубку брала Прасковья. Спрашивал, все ли там живы-здоровы, и, получив утвердительный Парашин ответ, давал отбой. Вот так — коротко и по существу. Но надеялся всё же, что бабка поставит в известность Миру Борисовну, что сын интересовался. А вообще, получилось всё по-идиотски. Тем более мог же с точностью предугадать материну реакцию. И она сидела бы там сейчас, не психовала. Знать бы ничего не ведала про шпионство про это. Слава богу, Тришка про убийство ещё не упомянула плюс к тому, о чём не умолчала. А ведь вполне могла б. У неё это просто — честная. И принципы есть. В общем, ловил себя порой на таких огорчениях. Но как их снять, мыслей не было.