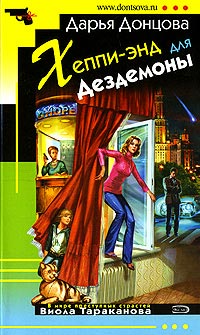Книга Империя Ч - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ты будешь!..
Не буду. Я хочу умереть. Убейте меня сразу.
Давай иглу, Сю Бо. А ты что встал, как баран, идиот, мул недорезанный?! Позовите Архангельского и Чеснокова. Они с ней справятся. Задери ей рукав!.. У нее уж вместе кофты — лохмотья, господин. Она плюется! Зачем мы сняли с ее рта сбрую! Она прокусила мне палец, господин!.. Тупица. Гляди, как надо. Это же не крокодил, а женщина.
Потная ладонь на ее лице. Острые пальцы с искусно заточенными китайским ножичком ногтями — против ее глаз. Одно движенье — и пальцы вонзятся в глаза, выдавят их. Ее зренье. Она еще хочет увидеть тебя. Где ты?! В голую руку по рукоять всаживается железная боль. По жилам поднимается лиловый огонь. Лицо горит. Руки горят. Ее мозг горит, воспаленный, волосы объяты пламенем, огонь встает жуткой короной вокруг головы. Огненный, терновый венец. Христос терпел и нам велел. Из покрывала тумана, из дыр китайского атласного богатого покрывала, изношенного донельзя, слышится скрежещущий голос: ну как? Ты решилась?! Ты будешь нашей карманной собачкой?!
Собачки, Иэту, Хитати…
Тьма…
ГОЛОСА:
Эта уличная идиотка хороша. Она как раз то, что мне требовалось давно. Ты врешь себе, Башкиров. Ну-ка себе-то уж не ври. Ты положил на нее свой собственный глаз. Ну уж нет, Башкиров! Ты же решил никогда больше не подбирать с улицы уличных кокоток, не жениться на них, не перевоспитывать их, не вытирать им носы и не штопать их лифчики!.. Э, друг Башкиров… Ты себя уговариваешь. Бросил бы лучше бездарно уговаривать себя, выгнал бы вон костоломов-китайцев и сделал с этой чернявой шлюшкой все что угодно. Все что угодно?! Да, все что угодно.
А что тебе угодно, Башкиров?! Быстрое, песье соитье?!
Может, тебе угодно ее… просто побить?! Отомстить… выместить на ней… все… за всех женщин, когда-либо обидевших, предавших, оболгавших тебя… плевавших тебе в лицо, Башкиров… прижигавших, Башкиров, сигареты о твои детские руки и ребра… прикладывавших утюги к твоим ребячьим пяткам… дававших тебе, подростку, подзатрещины… О, как ты сладко, вволюшку сейчас отомстишь сразу всем!..
А, собственно, чем провинилась именно она?.. остановись, ты безумен… ты бы сейчас просто, в припадке злобы, умертвил эту козочку… и тебе пришлось бы опять заниматься поисками… слоняться по ночному надоевшему, как горькая редька, Шан-Хаю… Что ты так смотришь на нее, Башкиров?! Что она тебе далась?! Что?!..
…брызги воды. Ей в лицо брызгают водой, в губы вливают сладкое, дрянное питье. Вино Она выплевывает его. На белой манишке Башкирова проступает красный осьминог с красными щупальцами. Очухалась?! Будешь работать на господина?! Будешь?!
Дайте мне китайское имя. Дайте. Родите меня заново. Искалечьте меня. А после вылечите. И я забуду себя. Забуду все, что было со мной. И я поддамся вам; я сделаю, что вы хотите. Но я должна сначала умереть. Убейте меня. Убейте меня на время, а потом оживите. Не можете! Не можешь, стриженый бобрик! Ты не господин! Какой ты после этого господин! Ты приблудный шан-хайский пес!.. Пощечина. Шум, красный шум вокруг. Тьма перед белым, холодным лбом. По губам течет теплое, соленое. Сволочь, Сяо Лян, ты выбил ей зуб! Нет, господин. Это красное вино течет у нее из-под языка. Она озорует. Она утаила под языком глоток вина, чтоб еще раз плюнуть в вас.
Ты, сука!.. Выдра бесщенная!.. Я заставлю тебя!..
У нее инфлуэнца, господин. Как пить дать. У нее даже лоб красный, так горит. Вы не боитесь заразы?
Она упала на пол вместе с гостиничным табуретом, к которому была крепко привязана, и больно стукнулась головой о красную, как мясо, мраморную плиту.
* * *
…тише, тише. Это оно, синее озеро. Синий хрусталь в пустыне, под морозным, холодым чистым небом. Старик, монгольский князь, как же хороша твоя девушка. Она кормит твоего коня. Она смеется, касаясь пальцем твоей жидкой бороденки, что развевает сухой порывистый ветер. Степь и пустыня, и мы одни в ней. И жизнь наша измерена до удара костяшки о костяшку: так мерно, звеня, идет костяное Время, и я заплетаю его колокольцы в гриву коня, чтоб услаждать твой ослабелый слух в дороге. О нет, мой возлюбленный, ты еще чутко слышишь, ты прекрасно видишь; ты можешь различить в небе ястреба, когда тот становится меньше чечевицы в прозрачной синеве. И за плечами у тебя, возлюбленный, — крылья. Их вижу только я. Княжеские, перевитые яматским жемчугом и монгольской красной яшмой, широкие крылья. Когда ты их распахиваешь под ветром и хватаешь меня на руки, мы поднимаемся, и я вижу землю сверху, из страшной, высокой дали — и все родные степи, и княжий дворец, и пагоду с завитками крыши, и бабочек махаонов, плавно летающих над ярко-синим, ослепительным озером. Мы летим, и ты крепко держишь меня. Летим, и я чувствую, как сияет изнутри твоя могучая плоть, как поднимается княжий жезл, указует мне путь. Ты обнажаешь мои бедра, запрокидываешь меня в полете, ветер обвевает мои горящие щеки высоким и чистым холодом. Ноги мои раскинуты, как лепестки лотоса. Его привезли тебе с длинной, как жизнь, реки Янцзы. Я чувствую, как медленно, медленно и мучительно жезл владыки входит в мою пещеру и ярко освещает ее. Ты медлишь. Скорее! Ты медлишь, и ты смеешься, и ты знаешь доподлинно: нельзя никогда торопиться в любви. Медленно разворачивается пружина в оружье; медленно вертятся, блестя, спицы в мировом Звездном Колесе. Поверни колесо звездного тела, девочка моя. Я огляжу всю тебя с закрытыми глазами. Я вижу тебя изнутри светящимся жезлом моим; внутри тебя никто не пребывал с факелом, кроме меня, степного князя. Да, ты пролил на белую, снежную степь красное вино сладкой девственности моей. Хочешь ребенка от меня?.. Хочу. Тогда иди ближе. Вот, гляди, медленно и непреложно вхожу я в тебя, в твой роскошный дворец, в твой дивный девичий чертог, и нет в мире силы, что учинит препятствия нам. Пронзай! Ближе. Коли! Еще ближе. Молись! Я молюсь, чтоб вечно пребыть в тебе.
Я желаю и хочу тебя вечно. Я люблю тебя. Дай мне сполна сласть и горечь жизни своей.
Полет, широкий полет. Седая бороденка бьет девушку по щекам. Они летят, сплетясь, и степной князь накрывает ее крылом, чтобы белое Солнце не видело, как, содрогаясь и крича, он весь, до конца — и кровью, и болью, и счастьем, и ужасом — изливается в нее, жадную и жаждущую. И летя, она разбрасывает руки и кричит от счастья, а он обнимает ее и держит в полете, на весу, и она не тяжелая, а скоро тяжелая будет, ибо она уже приняла семя и зачала.
Здесь, в синем небе, в игре Солнца и хрусталя, в высоком морозе, над бирюзовым и круглым озером — то ли Ханка имя ему, а то ли Бай-Кель, а то ли Лоб-Нор, а то ли Хубсугул, — никто не знает; и не узнает никогда.
* * *
Она научилась примерять богатые шляпки вместо соломенных, торговкиных.
Она напяливала туфли на высоких каблуках, так, что перед зеркалом сама пугалась своего роста.
Поковырявшись в сундуках, она извлекала на свет Божий то черную длинную юбку с бесстыдным разрезом во весь бок, чтоб блестела при ходьбе вся, целиком, белая длинная нога, — то черное платье из вытертых страусиных перьев — с чьего плеча бесцеремонно сдернул его Башкиров?.. — то черную блузу декольте, и в наглом вырезе ее грудь смуглела, были видны темные острые соски, а Сю Бо сзади услужливо накидывал ей на шею при этом нитку мелкого неровного жемчуга и застегивал на затылке под волосами: о, какая изысканная госпожа, в ресторане все падут ниц.