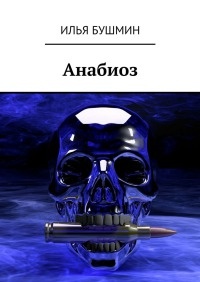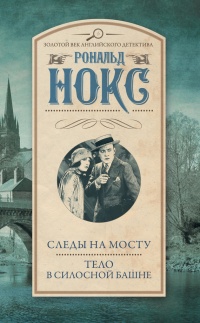Книга Моя кузина Рейчел - Дафна дю Морье
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В экипаже, дабы иметь возможность смотреть на нее, я садился спиной к лошадям; она же, думаю, чтобы подразнить меня, нарочно не поднимала вуаль.
— Ну а теперь, — говорил я, — вперед, к вашим сплетням, вашим маленьким потрясениям и склокам! Чего бы я не дал, чтобы превратиться в муху на стене!
— Поезжайте со мной, — отвечала она, — вам это пойдет на пользу.
— Ну уж нет! Вы обо всем расскажете мне за обедом.
И я оставался на дороге, провожая взглядом экипаж, и, пока он не исчезал из виду, в его окошке развевался изящный носовой платок. Я не видел ее до пяти вечера, то есть до обеда, и часы, отделявшие меня от новой встречи, превращались в некое испытание, через которое необходимо пройти ради конца дня. Работал ли я в конторе, ездил ли по имению, разговаривал ли с людьми, меня все время одолевало нетерпение. Который час? Я смотрел на часы Эмброза. Только половина пятого. Как медленно тянется время!
Возвращаясь домой мимо конюшни, я сразу замечал, что она уже приехала: в каретном сарае стоял запыленный экипаж, конюхи кормили и поили лошадей.
Войдя в дом, я заглядывал в библиотеку, в гостиную. Пусто. Она всегда отдыхала перед обедом. Затем я принимал ванну или умывался, переодевался и ждал ее в библиотеке. По мере того как стрелки часов приближались к пяти, мое нетерпение возрастало. Дверь библиотеки я оставлял открытой, чтобы слышать ее шаги.
Сперва до меня долетал мягкий топот собачьих лап — теперь я утратил для собак всякое значение, и они как тени повсюду ходили за Рейчел, — затем шуршание платья по ступеням лестницы. Пожалуй, это мгновение я любил больше всего. Знакомый звук молниеносно будил во мне неясные ожидания, смутные предчувствия, я терялся — что сделать, что сказать ей, когда она войдет в комнату? Не знаю, из какой ткани были ее платья — из плотного шелка, атласа или парчи, — но казалось, они скользят по полу, приподнимаются, снова скользят; и то ли само платье плыло, то ли она двигалась в нем с такой грацией, но библиотека, темная и строгая до ее прихода, внезапно оживала.
При свечах в Рейчел появлялась мягкость, которой не было днем. Словно яркость утра и приглушенные тона послеполуденных часов отдавались работе, и ее движения были четки, продуманны; но теперь, когда опустился вечер, непогода осталась за окнами и дом замкнулся в себе, она излучала таившееся в ней до сей поры сияние. Ее щеки слегка розовели, волосы казались темнее, глаза светились бездонной глубиной, и поворачивала ли она голову, чтобы заговорить со мной, подходила ли к шкафу взять книгу, наклонялась ли погладить вытянувшегося перед камином Дона — во всем, что она делала, была непринужденная грация, придававшая каждому ее движению ни с чем не сравнимое очарование. В такие мгновения я недоумевал: как мог я когда-то находить ее обыкновенной?
Сиком объявлял, что обед подан, мы переходили в столовую и занимали свои места: я — во главе стола, она — по правую руку от меня, и мне казалось, что так было всегда, что в этом нет ничего нового, ничего необычного, будто я никогда не сидел здесь один — в старой куртке, положив перед собой книгу, чтобы под предлогом чтения не разговаривать с Сикомом. Но никогда прежде такое обыденное занятие, как еда и питье, не показалось бы мне столь увлекательным, как теперь, никогда не превратилось бы в своего рода захватывающее приключение.
Неделя проходила за неделей, мое волнение не уменьшалось, напротив, оно возрастало, и наконец я поймал себя на том, что под разными предлогами стараюсь быть поближе к дому, чтобы хоть мельком видеть ее и тем самым на несколько минут продлить время, которое мы проводим вместе. И была ли она в библиотеке, проходила ли через холл, ожидала ли в гостиной посетителей, она улыбалась мне и говорила: «Филипп, что привело вас домой в такое время?» — вынуждая меня придумывать все новые и новые объяснения. Что касается сада, то я, который зевал и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, когда Эмброз пытался заинтересовать меня, теперь делал стойку, едва речь заходила о садах, и вечерами после обеда мы вместе с ней просматривали итальянские книги, сравнивали гравюры и оживленно обсуждали, какую из них скопировать.
Думаю, если бы она предложила построить на Бартонских землях копию самого римского Форума, я бы согласился. Я говорил «да», «нет», «право, это прекрасно», но никогда не слушал по-настоящему. Мне доставляло удовольствие видеть ее увлеченность любимым делом; видеть, как, нахмурив брови, с карандашом в руке она сосредоточенно размышляет над тем, какую из двух картинок выбрать; наконец, видеть, как ее руки тянутся то к одной книге, то к другой…
Мы не всегда сидели в библиотеке. Иногда она просила меня подняться с ней в будуар тетушки Фебы, и мы раскладывали на полу книги и планы садов.
Внизу, в библиотеке, хозяином был я. В будуаре хозяйкой была она. Пожалуй, это нравилось мне гораздо больше. Мы забывали об условностях. Сиком не докучал нам; очень тактично она убедила его отказаться от торжественного ритуала с серебряным чайником и подносом и сама готовила для нас одну из tisana — ячменный отвар, объяснив, что так принято на континенте и что это очень полезно для печени и для кожи.
Вечер пролетал слишком быстро. Я всегда надеялся, что она забудет спросить меня про время, но злополучные башенные часы, расположенные слишком близко над нами, чтобы мы не заметили, как они бьют десять раз, неотвратимо нарушали наш покой.
— Я и не представляла, что так поздно, — обычно говорила она, вставая и закрывая книги. Это был сигнал к расставанию. Даже такая уловка, как задержка в дверях, якобы для того, чтобы закончить начатый разговор, ни к чему не приводила. Пробило десять — я должен уходить. Иногда она давала мне поцеловать руку. Иногда подставляла щеку. Иногда, как щенка, трепала по плечу. Никогда больше не подходила она ко мне вплотную, не брала мое лицо в руки, как в тот вечер у нее в спальне. Я не стремился к этому, не надеялся на это; но, когда пожелав ей доброй ночи и войдя в свою комнату, я открывал ставни, вглядывался в безмолвный парк и слышал приглушенное дыхание морского прилива в маленькой бухте за лесом, я чувствовал себя одиноким и брошенным, как ребенок, у которого кончились каникулы.
Вечер, что целый день час за часом выстраивался в моем лихорадочном воображении, прошел. Казалось, он не скоро наступит вновь. Но ни душой, ни телом я не был готов к отдыху. Прежде, до того как она приехала к нам, зимой после обеда я обычно дремал у камина, затем, зевая и потягиваясь, тяжело поднимался по лестнице, довольный тем, что можно наконец лечь в постель и проспать до семи утра. Теперь все было иначе. Я мог бы бродить целую ночь.
Мог бы проговорить до рассвета. Первое было глупо, второе — невозможно.
Поэтому я бросался в кресло у открытого окна и курил, устремив взгляд в дальний конец лужайки. Прежде чем раздеться и лечь, я, бывало, просиживал в кресле до часу, а то и до двух ночи, ни о чем не думая, забывая о времени.
Первые декабрьские морозы наступили с полнолунием, и мои ночные бдения окрасились в несколько иные тона. В них вошла своеобразная красота — холодная, чистая; она трогала сердце, вызывала изумление. Лужайка под моим окном сбегала к лугам, луга — к морю; все было бело от инея, бело от лунного сияния. Деревья, окаймлявшие лужайку, стояли темные, неподвижные.