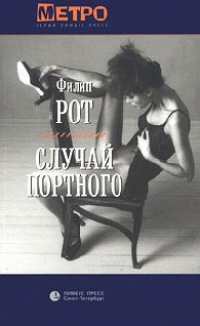Книга Болезнь Портного - Филип Рот
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
emp
Кей Кемпбелл, моя подруга по Антиох-Колледжу — разке можно где-нибудь найти более примерную девушку? Простодушная, доброго нрава, безо всякого намека на какую бы то ни было патологию — достойнейшая девушка и добрейшая душа. Где она теперь — эта находка? Привет, Тыква! Где ты? Небось, осчастливила какого-нибудь шайгета из американской глубинки? А разве может быть иначе? Кей редактировала в колледже литературный журнал, сдавала все экзамены по английской литературе только на «отлично», и вместе со мной и моими преступными друзьями пикетировала парикмахерскую в Иеллоу Спрингс, где отказывались стричь негров, — дебелая, добродушная девушка с большим сердцем, и большим задом, светловолосая с детским личиком и, к большому сожалению, совершенно плоскогрудая (похоже, плоскогрудые женщины — моя судьба. Интересно, почему? Есть ли статьи по этому поводу? Важно ли это? Или нет?). Ах, а эти крестьянские ноги? А блузка, постоянно торчащая сзади поверх юбки? О, как я был тронут ее жизнерадостным характером! И тем, что она совершенно не умела ходить на каблуках — это ей было просто противопоказано, в туфлях на высоком каблуке Кей напоминала кошку, застрявшую на верхушке дерева. Она первой из всех Антиохских нимф начинала по весне ходить босиком. «Тыква» — эту кличку для Кей придумал я, вдохновившись цветом ее кожи и размерами ее задницы. А также ее твердостью: во всем, что касалось моральных принципов, Кей Кемпбелл была тверда как тыква и упряма до такой степени, что я просто умирал от зависти.
Она никогда не повышала голос во время спора. Можете представить, какое впечатление сие обстоятельство оказало на семнадцатилетнего Алекса, только-только вышедшего из рядов «Общества спорщиков Джека и Софи Портных»? Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с подобным подходом к полемике? Она не высмеивала своего оппонента! Она не испытывала ненависти к людям, чьи идеи отличались от ее собственных взглядов! Ага! Так вот в чем разница между отличником-евреем из Нью-Джерси и отличницей-шиксой из Айовы! Да, именно этим достоинством обладают те гои, которые обладают хоть какими-то достоинствами: они умеют быть властными без гнева. Добродетельными без самолюбования. Уверенными в себе без чванства и высокомерия. Давайте будем честными, доктор, и воздадим гоям должное: если уж они производят впечатление, то впечатление это неизгладимое. Они такие правильные! Да, именно это меня и гипнотизировало: сочетание сердечности Кей с ее твердостью. «Тыквенность» этой девушки, короче говоря. Где ты теперь, моя цельная большезадая, босоногая шикса? Где ты, Кей-Кей? Сколько у тебя детей? Сильно ли ты растолстела? Ну и что! Я вполне могу представить, что ты стала величиной с дом — надо же куда-то вместить твой характер! Самая лучшая девушка Среднего Запада! Почему же я упустил ее? Дойдем и до этого, не беспокойтесь, мы ведь уже знаем, что самоистязание — не что иное, как непрерывные воспоминания. Позвольте мне на время забыть о некоторых чертах реальной Кей. О ее масляной коже и неухоженных волосах. Она даже не заплетала их— а ведь дело происходило в пятидесятые годы, когда свободно ниспадающие волосы еще не были в моде. Она была естественна, доктор! Пухлая, необъятная Кей, окрашенная в солнечные цвета! Готов биться об заклад, что за подол твоего платья, обтягивающего необъятную задницу (столь непохожую на крепенькую попку Мартышки, умещающуюся в моей ладони), вцепилось не менее полдюжины детишек. Спорим, что ты сама выпекаешь хлеб? Правда ведь? Как тогда — теплой весенней ночью в Йеллоу Спрингс, помнишь? Ты пришла ко мне домой, ты по уши перепачкалась мукой, ты вся вспотела, несмотря на то, что суетилась у печи в одном исподнем — помнишь? Ты хотела, чтобы я узнал вкус настоящего хлеба! Ты вполне могла бы замесить тогда тесто из моего сердца — так оно размягчилось. Я готов поспорить, что ты живешь там, где воздух по-прежнему кристально чист, и где не принято запирать двери домов. И тебе все так же наплевать на деньги и на собственность. А знаешь, Тыква, я ведь тоже не запятнал себя пристрастием к этим и прочим буржуазным штучкам. О, восхитительно непропорциональная Тыква! Не то что манекенщица с ногами длиной в милю. Ну не было у нее грудей — ну и что? Выше талии она походила на бабочку, а ниже талии — на медведя! Она держалась корней — вот что я хочу сказать! Прочно стояла на американской земле своими по-мужски мощными ногами.
Слышали бы вы Кей Кемпбелл на втором курсе колледжа, когда мы с ней обходила дома в Грин-Каунти агитирующую за Стивенсона! Сталкиваясь с чудовищной мелочностью приверженцев республиканской партии, с их мрачными физиономиями и беспросветной тупостью, от которой можно было сойти с ума — сталкиваясь со всем этим, Тыква вела себя как истинная леди. Я же походил на варвара. Независимо от того, сколь бесстрастно (или снисходительно — так выглядело со стороны) я начинал свою речь, заканчивалось все яростью и глумливым смехом. Вспотев от усердия, я стоял нос к носу с этими ужасными, ограниченными обывателями и, разражаясь проклятиями, обзывал их любимого Айка неучем, политическим и моральным уродом — быть может, именно я виновен в том, что Эдлай так катастрофически провалился в Огайо. Тыква же выслушивала точку зрения оппонента со столь неподдельным интересом, что мне порой казалось — сейчас она обернется и скажет:
— Слушай, Алекс, а ведь мистер Йокель, похоже, прав — пожалуй, он действительно слишком мягко относится к коммунистам.
Но нет! Когда мы выслушивали последнюю идиотскую реплику касательно слишком «социалистических» или «красных» идей нашего кандидата, когда эти обыватели, последний раз пройдясь по нашему кандидату и, обвинив его в отсутствии чувства юмора, умолкали, исчерпав свои аргументы, — тогда-то Тыква чопорно и — чудо ловкости — без тени сарказма (ей можно было доверить судейство на конкурсе кондитеров — столь безукоризненными были ее чувство юмора и ее уравновешенность) указывала мистеру Йокелю на его фактологические и логические ошибки, а также на его скупердяйскую натуру. Не прибегая при этом ни к искаженному апокалипсическому синтаксису, ни к дурному словарному запасу отчаявшегося человека. Она не потела, не хватала воздух пересохшим ртом, лицо ее не искажалось от ярости — и тем не менее, ей удавалось вселять сомнения в души местных жителей! Господи, она действительно была одной из самых великих шикс. Скольким вещам я мог бы научиться у нее, если бы связал с ней свою жизнь! Да, мог бы — если бы хоть чему-нибудь вообще мог научиться! Если бы мог избавиться от одержимости оральным сексом, блудом, любовными фантазиями и местью! Если бы позабыл про обиды! Если бы перестал гоняться за мечтами! Если бы разорвал эту безнадежную, бессмысленную связь с прошлым!
В 1950 году, когда мне было семнадцать лет, и Ньюарк уж два с половиной месяца как остался в прошлом (нет, не совсем: просыпаясь по утрам в общежитии, я недоумевал, озадаченный исчезновением одного из «моих» окон, и никак не мог понять, почему я укрыт каким-то незнакомым одеялом. «И зачем маме понадобилось переделывать спальню?» — думал я в первые мгновения после пробуждения), — так вот, в 1950 году я предпринял самый дерзкий акт неповиновения в своей жизни: вместо того, чтобы отправиться на каникулы домой, я на День Благодарения поехал вместе с Тыквой к ее родителям в Айову. До сентября того года я не бывал западнее озера Хопатконг, штат Нью-Джерси, — и вот теперь, в ноябре, я еду на поезде в Айову! С блондинкой христианского вероисповедания! Кто более ошеломлен подобным дезертирством — моя семейка или я сам? Какая дерзость, какая отвага! Или это всего лишь бесстрашие лунатика?