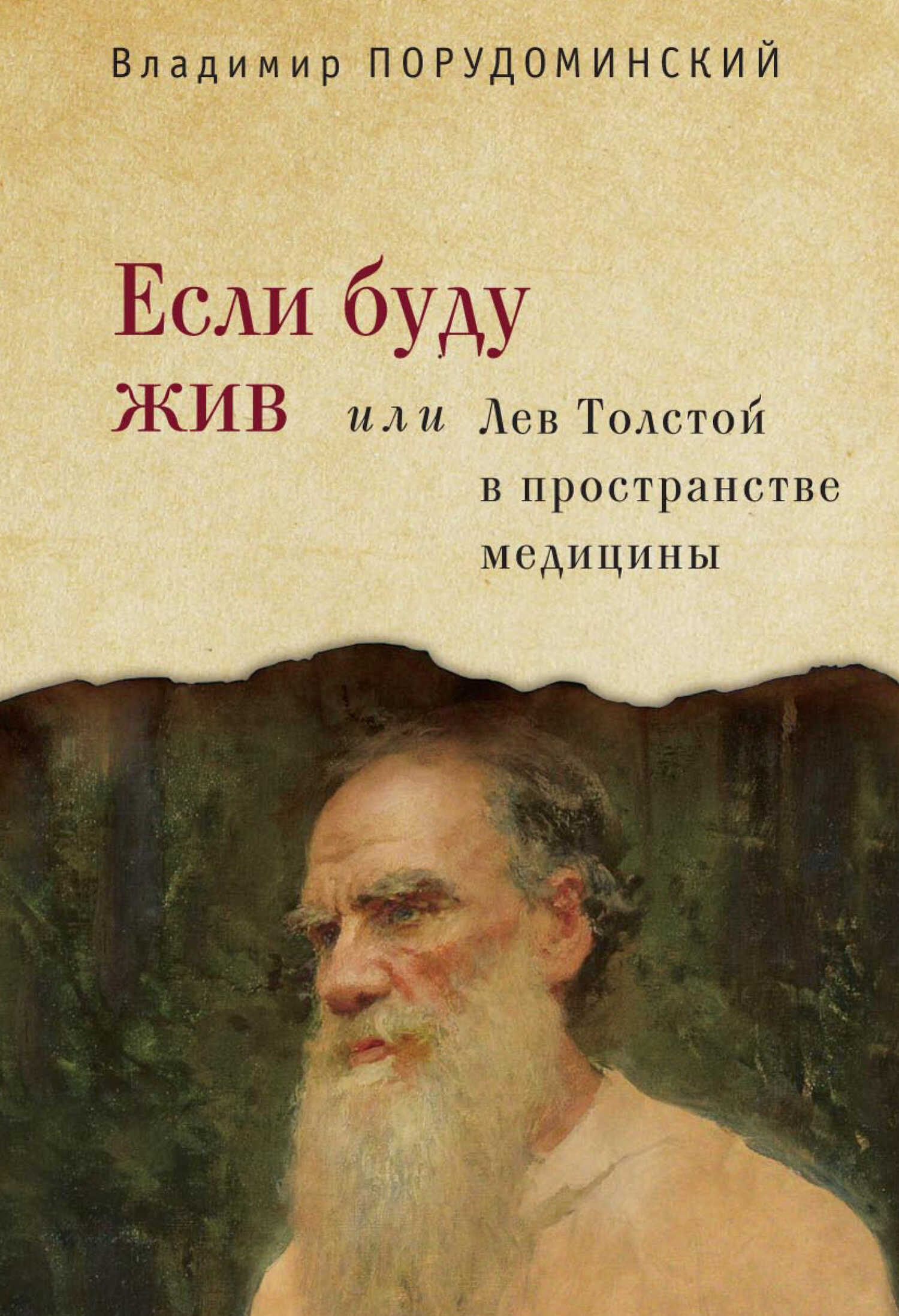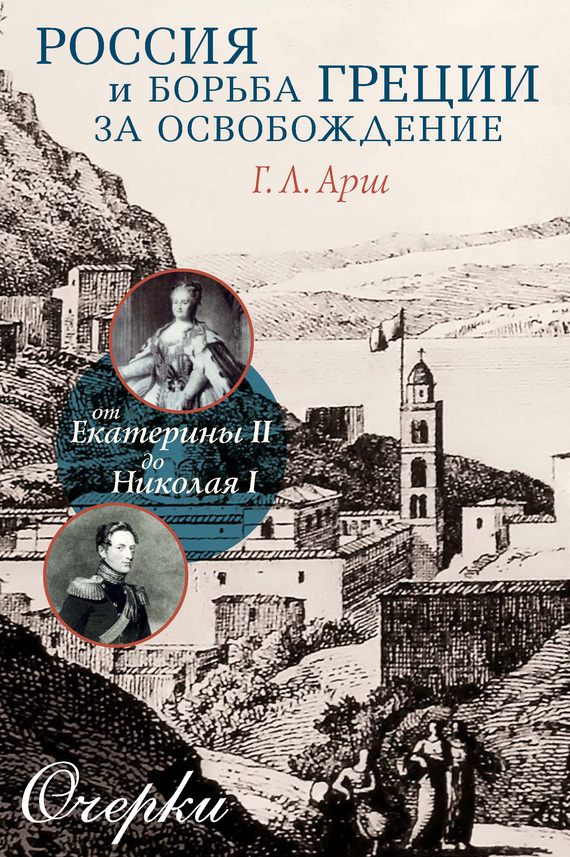Книга «Что есть истина?» Жизнь художника Николая Ге - Владимир Ильич Порудоминский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1876 году Ге думал об искусстве, о Боге, но ехал на хутор хозяйствовать. Идей и планов у него было хоть отбавляй…
Он не мог дождаться, пока тяжело груженые возы протащатся эти несчастные шесть верст от станции до хутора. На легкой и тряской телеге он обогнал возы и первым примчался к дому. Работники Лука и Немой его дожидались. Он послал их нанять еще мужиков, чтобы помогли разгружать вещи. Пока бегали, подоспели возы. Мужики развязали веревки, сняли пропыленные холстины, которыми были укрыты вещи, стали носить добро в дом. Мешки, стянутые блестящими ремнями. Клетчатые тюки. Кожаные баулы. Неуклюжие сундуки с посудой. Картины, упакованные в ящики. Картины, свернутые в трубку и обшитые тканью. И просто кое-как связанные картинки, не похожие на образа…
Столичный рынок и степная ярмарка
Трудно найти художника, в душе которого не жила бы мечта – от заказов, от неизбежных сюжетов, от суеты, лицемерия, от навязших в зубах разговоров сбежать в леса, в степь, в глушь, писать что на глаза попадется и согреет сердце – куст, скамейку, лошадь, набрасывать крестьянских ребят, старух у церкви, босоногую девку с ведром или рисовать картинки к Евангелию.
Но еще труднее найти художника, который сбежал бы в эти леса и степи надолго, тем более навсегда – и не захирел бы без товарищей по искусству, без утомительных споров, без сладкой лести и обидной, хотя подчас справедливой хулы, без срочных заказов, которые доводят до исступления невозможностью остановиться, оглядеться, без мечты, что когда-нибудь удастся стряхнуть с плеч эту жизнь и сбежать в глушь, чтобы писать скамейку, лошадь, куст. Трудно найти художника, который спустя месяц-другой не мчался бы из лесов и степей в шумную столицу, вдруг ощутив ненужность и бесцельность своего существования.
Чего ж удивляться, – когда Ге объявил, что купил землю, что уезжает навсегда, когда он увлеченно развивал перед слушателями уже не мысли об искусстве, а проекты хозяйственного устройства, когда на Ге смотрели как на художника отжившего, который «погиб окончательно», – чего ж удивляться: едва Ге покинул Петербург, все дружно заявили, что он бросил живопись.
Ге исчеркивал альбомы, исписывал холсты – искал, пробовал себя. В первые же годы хуторской жизни он написал десятки портретов. Четыре года он, правда, не выставлялся; зато потом показывал свои работы на четырех выставках подряд. Но все твердили – «бросил, бросил» – и рассказывали анекдоты: Ге-де сеет табак, разводит скот особенной породы и, конечно же, терпит фиаско. Лишь с 1889 года, когда что ни выставка появлялась новая удивительная и неожиданная картина Ге, все, так же дружно, поняли наконец, что Ге от искусства отставить невозможно.
Только один человек с первого дня не верил, что Ге бросит живопись, только один человек, хотя и трудно ему приходилось, верил в возрождение Ге. Этот человек был художник Николай Ге.
Он писал Третьякову: «Я желаю еще работать, т. е. заниматься искусством». И дальше: «Верю, что Бог мне поможет до конца жизни быть художником, каким я был двадцать пять лет».
На хуторе он сразу стал пылким сельским хозяином: перепланировал угодья, изобретал рациональные способы сева, покупал кое-какие машины (не то чтобы много – денег не было – однако следовало быть современным), завел пасеку, интересовался косьбой, бороньбой, удобрениями. Не забыл подать прошение в Черниговское дворянское собрание о внесении его с сыновьями в дворянскую родословную книгу. Ездил в собрание, слушал споры, сам воевал: в собрании 45 правых и 30 левых; он левый.
Однако первое, что он сделал, – перестроил старый барский дом и оборудовал себе мастерскую; причем сам сконструировал для нее особенное окно с подвижными рамами на шарнирах и системой зеркал, чтобы «ловить» верхний свет.
Сент-Экзюпери говорил, что величие ремесла в том, что оно объединяет людей. Многим казалось, будто Ге своим бегством на хутор насильственно отлучил себя от такого объединения. Репин, уже почти подводя итоги жизни Ге, писал Татьяне Львовне Толстой: «Вся беда этого горячего таланта в том, что он живет не в художественной среде».
В воспоминаниях Мясоедова, да и других, читаем, будто на отъезде из Петербурга настаивала Анна Петровна, будто тем самым она хотела уберечь мужа от новых огорчений и разочарований. Невозможно поверить! Стоит почитать письма Анны Петровны, чтобы не поверить. Кто ее не знал, мог подумать, что на хуторе она зажила удобно и спокойно: посылала сыновьям в Киев битую птицу и варенье – эдакая «старосветская помещица»! А она страдала в этих самых Плисках. Она была женщина из интеллигентного круга, ей голубая гостиная была нужна, привычные друзья, привычные разговоры. Ее больше бы устроили жалкие пятьсот рублей, которые бы присылал арендатор, чем вся эта возня с пахотой, молотилками, с навозом, к которой ее Николай Николаевич не допускал и которой она, кстати сказать, не хотела заниматься.
Они жили на хуторе бедно, Николаю Николаевичу приходилось считать копейку, скупиться; как все неопытные хозяева, он и скупиться не умел – экономил не на том. Бывали годы, он газет не выписывал; Анна Петровна всю жизнь привыкла быть в курсе всего самого нового, а тут, лишенная общества, оторванная от того, что почитала интересным, коротала со старушкой родственницей вечера за картами. В 1884 году она пишет сыну: «Этот год отец никакой даже газеты не выписывает… Живем в полном уединении… Я перечитываю старые, давно знакомые книги».
Дом оказался холодный. Анна Петровна не любила позднюю осень, зиму. Особенно ноябрь. «Холода нас жестоко преследуют…Печи не греют. Ждем с нетерпением весны».
К хозяйственному порыву Николая Николаевича у нее отношение ироническое. «Отец получил новую молотилку и, конечно, в восторге…» «На хуторе объявлена война грачам, но вся артиллерия хутора – одно ружье». Иногда в письмах Анны Петровны сквозь нетерпеливые строки прорывается тяжелый стон: «Не люблю я такой хлопотливой серой жизни. Николай Николаевич находит ее идеальной и благо ему».
Как оживала Анна Петровна в Петербурге и Москве, куда Николай Николаевич брал ее иногда на открытие выставок. Там все ей близко, дорого. Вот с Софьей Андреевной Толстой поговорила, вот беззлобно ругнула Антона Григорьевича Рубинштейна – он любит иногда пообещать и не выполнить. Все свое.
Нет, не случайно те же люди, которые приписывают Анне Петровне инициативу бегства на хутор, в тех же воспоминаниях, через несколько страниц, изображают ее как жертву. Тут дело в тончайшем оттенке: Анна Петровна не была жертвой Николая