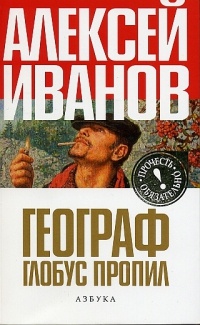Книга Темные вершины - Алексей Винокуров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Буш помолчал недолго время, потом повторил с тихим упрямством.
– И все же он мертв…
– Да почему вы так решили? – внезапно и визгливо закричал Мышастый. – Потому что он молчал? Или потому что глаза у него были закрыты?!
– У него не было глаз, – отвечал базилевс, не глядя на триумвира. – Их выклевали птицы. А сам вождь был мертв, он разлагался.
– А я вам говорю, что это невозможно, – озлобленно перебил его Мышастый. – Вождь – это не просто вождь. Он…
Но тут Хабанера коснулся его руки и Мышастый осекся, умолк. Наступила мертвая тишина. Он смотрел на триумвиров, а триумвиры смотрели на него. А тишина все длилась и длилась.
Наконец Мышастый тяжело вздохнул и снова заговорил.
– Хорошо, – сказал он брюзгливо, – оставим вождя в покое. Что еще вы видели? Или кого?
Буш закрыл глаза и снова увидел, словно наяву, как, сложив крылья, обходит он мертвое тело кадавра. С другой стороны к столбу был привязан еще один человек, он был живой. Буш содрогнулся, увидев его лицо, так неожиданно и страшно было то, что предстало его глазам…
– Что за человек? – быстро спросил Мышастый. – Вы его знаете?
Он заколебался, говорить или нет… И вдруг увидел, как Хабанера сделал быстрое движение рукой, словно отмахивался от назойливой мухи. Однако Буш знал, что муха тут ни при чем. Он сразу понял смысл этого жеста – Хабанера прижимал палец ко рту, запрещал ему говорить.
– Ну, – повторил Мышастый нетерпеливо, – узнали вы его или нет?
– Нет… – сказал он, – нет. Я не узнал его.
Базилевс соврал, и ложь эта была страшна. Но еще страшнее была правда…
– И вот еще что, – медленно выговорил Мышастый. – Если вам дорога жизнь, никогда и нигде не упоминайте о том, что здесь видели. Никогда и нигде.
К вершинам
Де профундис
Мышастый сидел за столом в Драконовых чертогах, подперев подбородок кулаком, и глядел в окно, прямо в непроглядную тьму. На улице был день, светило солнце, но только не у него здесь, не любил он этих дешевых ультрафиолетовых демонстраций. В Чертогах всегда было открыто око тьмы, куда он смотрелся, как в зеркало. Тьма, царящая в душе, тьма вечная, метафизическая, не позволяла отвести от себя глаз – баюкала, ласкала, успокаивала. Тьма эта пребывала и менялась, порождала Мышастого и возвращалась к нему, тьма хранила его, и тьма была им хранима.
Но это была, конечно, не та тьма, о которой толкуют глупые поповские сказки, тьма преисподняя, демоническая. Нет-нет, то была тьма изначальная, откуда родится мир, – тьма теплая, нежная, доверчивая. Та самая Тьма, которая располагается в тени горы и которой древние даосы дали имя Инь: тьма-мать, тьма-женщина, без нее же ничего не было и ничего не будет…
Триумвир задумчиво сидел за столом темно-зеленого игорного сукна, протяженным, как футбольное поле. На краю стола стояла квадратная стальная клетка. В клетке суетилась черно-белая ручная крыса Дуська: бегала, вдруг замирала, прикусив зубами прут, глядела мило и печально, чуть пошевеливались светлые усы. Прутья клетки отбрасывали на зверька тень, и крыса казалась полосатой, как старорежимный каторжник, только кандалов на лапках недоставало.
– Что сидишь, Дуняша? Выходи, прогуляйся, – предложил Мышастый.
Но крыса выходить не хотела: то ли чуяла что-то, то ли из чистой осторожности. Вот тоже метафизика, поставленная на голову. Крыс боится весь свет, а сама крыса боится из клетки нос высунуть. Может, и с нами так же, и мы тоже крысы, сидим в клетке, а мировой разум нам сыплет сквозь прутья манну небесную, зерновую смесь, и мы так же становимся на задние лапки, трясем эту клетку, а выйти не можем, боимся.
Мышастый вздохнул: далеко зашло дело, ах как далеко… С каждым годом все труднее удерживать власть, базилевсы сменяются, как блядюшкины перчатки, Великая цепь непогребенных все длиннее, и в строгом соответствии с законами физики силы сквозь нее проходит все меньше и меньше, потому что часть тратится на проклятое сопротивление материала – хоть и мертвого, но упорного.
Крыса, обеспокоенная оцепенелым видом хозяина, зашебуршалась в своей клетке, и Мышастый пришел в себя. Прямо перед ним лежала общая тетрадь: ученическая, серая, внутри – линованные страницы, исписанные почерком тряским, фиолетовым, неразборчивым. Но разобрать все-таки придется, и разобрать до последней буквы: тетрадь эта – не просто тетрадь, а дневник базилевса.
Почивший в бозе, или, вернее сказать, во диаволе непогребенный, потентат не доверял современной технике. Компьютер можно взломать, цифровую информацию украсть, расшифровать, размножить в любом количестве. А тетрадь – она одна и все время при базилевсе. Значит, никто не сунет в нее гриппозный нос – влажный, шмыгающий, любопытный.
Одного не учел базилевс, да, одного – что он сам не вечен, сам прах и ко праху отойдет, а тетрадь его останется голой, беззащитной перед стальным взглядом Мышастого, выдаст рано или поздно ему все свои тайны. Дело оставалось за малым – увидеть, что он там писал, а значит, понять, что творится в самом низу, в глубинах, недоступных пока ни самому Мышастому, ни лелеемой им тьме.
Триумвир потер ладони, разогревая, открыл первую страницу и углубился в чтение – в медленный, по словам, по буквам разбор. Тут были малые отрывки, отдельные фразы, замечания, а были и длинные, на страницу, рассуждения. Все это казалось бесценным для Мышастого, за словами этими стояли дела – дела мрачные, страшные, еще не совершившиеся даже, но готовящиеся в немыслимых пропастях, откуда брал силу Великий кадавр.
В первых заметках ничего интересного не было: открывался дневник с ожидаемых размышлений о родине, с того, что Хабанера называл «патриотизм мелкой продрисью».
– Не могут они без этого, – говорил Хабанера, – ни украсть, ни убить, ни солгать, чтобы родину несчастную не приплести, как будто им за это все спишется, любая гадость, любое преступление.
А может, и спишется, думал про себя Мышастый, кто его знает, как там все устроено, назад-то ведь никто не возвращался, ну, или почти никто…
«Отчизна для меня – не пустой звук, – трудно выводились по серой бумаге лиловые базилевсовы каракули. – Я люблю эти гребаные просторы, это говенные дали, эти мутные красоты… Все, все меняется в отечестве нашем богоспасаемом, не меняется только вечная любовь к нему и болтовня о милосердии. Какое вам, на хрен, милосердие, если даже маленький человек уже не Акакий Акакьевич, а Упукий Упукьевич? Акакия можно пожалеть, хотя и смешно, а Упукия? Упукия жалеть не надо, он сам себя пожалеет, а всех остальных загрызет… Был бомж Акакий, стал вор Упукий. Воры, известно, сами себе дают заранее смешные, ничтожные прозвища, но только отвернись – голову откусит…»
Мышастый только плечами пожал, молча читал дальше.
«Народ наш – особенный среди всех народов Земли. Рабское свое покорство перед властью они полагают своим достоинством и хвалятся им – потому что других не имеют. Если завтра велю им есть людей, они только спросят: жарить их или варить? Надо – съедят и живьем. Таким образом, живут они бессмысленно, дико, а смысл жизни получают, только когда их нагибают. Поэтому надо их нагибать, не жалея. Если придется, то и до смерти… См. Иван Грозный, Петр Романов, Иосиф Джугашвили…»