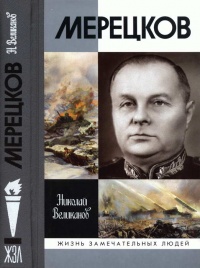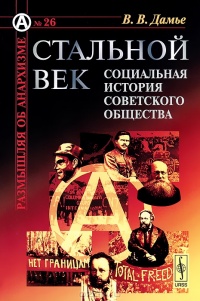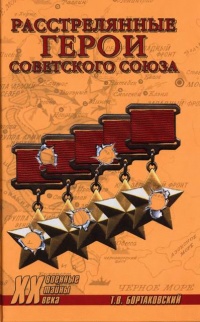Книга Дядя Джо. Роман с Бродским - Вадим Месяц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Как это нос мог уйти от хозяина? — засмеялись в зале.
— Потому что у Гоголя было особенное чувство юмора, которому нам надо еще поучиться.
Я рассказал, что череп из его могилы был похищен, завещание он написал за семь лет до смерти, сжег второй том «Мертвых душ». И чтобы совсем добить «черноротиков», сообщил, что Гоголь был девственником.
В аудитории воцарилась зловещая тишина.
— То есть вообще никак? — спросил француз.
— Никак.
— И это доказано?
— Можно считать, стопроцентно.
— И вы после этого говорите, что он похож на ирландских писателей — пьяниц и бабников?
— Какая разница? Главное, как человек может пошутить.
— О Пушкине вы говорили другое.
На галерке что-то громыхнуло. Джита Марвари уронила свой портфель. Писчебумажная мелочь рассыпалась по полу, но девушка аккуратно собрала всё обратно и, поднимаясь, сказала под хохот одногруппников:
— С сегодняшнего дня Николай Гоголь — мой любимый русский писатель. Иду в библиотеку. С этим классиком я должна познакомиться поближе.
Я не понимал, куда меня несет жизнь, но она увлекала меня стремительно и бесповоротно в каком-то нужном ей направлении. Наталье Ефимовой я позвонил сразу же, как вернулся из Вашингтона. Болтал часа два. Влюбился окончательно и бесповоротно. Обилие прочих девиц меня не смущало. Там — проза жизни, тут — дама сердца. Она только что окончила Колумбийский университет, искала работу. Я был бы рад помочь ей, но включать ее в свои сомнительные схемы не торопился. Я набросился на нее со всей мощью одинокого человека, хотя им по существу не был.
Наташенька, светлый образ в мире перекошенных теней. Трезвый человек среди пьяных чудовищ. Твой смех спас меня в пору пустоты и невнятности. Как бы хорошо ни шли мои дела, я катился по наклонной плоскости. Я встретил тебя и остановился. Я присмотрелся и увидел, что на свете есть другая жизнь. Любовь существует для двоих, но иногда ее достаточно и для одного человека. Любовь — это огонь на маяке, костер в тумане, лампочка в качающемся тамбуре. Что я мог дать тебе в те годы, кроме болтовни и блажи? Чему я мог научить тебя, когда сам ничего не умел? Как мог развлечь тебя, если сам довольствовался лишь собственными выдумками? Я слушал только себя. Я вел себя как поэт и болван.
Я рассказывал ей о перевозке камней по миру, о романе с подводной черепахой, который начался, когда мне было пять лет от роду, о кладбище божьих коровок в Южной Каролине, о рыбалке (однажды мне удалось поймать говорящую рыбу). Я сообщал ей всякую ерунду, выходящую за рамки обыденности и украшающую, на мой взгляд, эту жизнь.
Мы сходили несколько раз на прогулку. И она, как мне казалось, радовалась и смеялась. И тоже рассказывала что-то в ответ.
Надвигался Хеллоуин, и она говорила, как переживала в детстве, что у них с сестрой были жалкие целлофановые плащики гномов вместо хороших маскарадных костюмов. Я был готов пустить пресную старческую слезу. Она рассказывала о любимых музыкальных группах. И я спешил ознакомиться с карибским регги. Она умела смеяться. Наташенька осматривалась вокруг и «хохоталась». Она была умна и иронична. Гениально имитировала повадки своей бабушки. Передразнивала зануд, встречающихся на нашем пути. Она владела вокаломеханикой типа штробаса[73] и могла петь с хрипами Луи Армстронга. Потрясная девица.
В городе открылось русское кафе — Anyway. Там тоже устраивались концерты и чтения. Приезжали российские знаменитости типа Макаревича и Дольского. Вполне светская жизнь.
Помню, мы явились туда на Хеллоуин в каких-то лохмотьях. Я узнал Максима Суханова, издающего журнал «Черновик»[74] вместе с Александром Очеретянским. Он был в наряде протестантского священника.
— Приест, — сказал я, пытаясь вспомнить, как звучит это слово по-английски.
— Priest, — поправила меня Наталья.
Меня радовало, что она — из литературной среды. Как-то навеселе Наталья читала «Джон Донн уснул…», растягивала слова, модулировала, говорила, что это гениально. Говорила как положено. Я на такие эмоции способен не был. В моем словаре вообще не было такого слова — «гениально».
Дядя Джо был для нее не только лидером русской поэзии, он был человеком, оправдывающим существование эмиграции. Другом семьи, который дослужился до «лейтенанта неба»[75]. Когда в нобелевской речи он говорил, что получает награду и за Цветаеву, и за Мандельштама, и за Ахматову, — он был искренен. Политическая карта легла так-то и так-то, судьба распорядилась так, как посчитала нужным, но шведы, хотели они этого или не хотели, отметили этим назначением весь Серебряный век в его расплывчатых очертаниях. Бродский пытался внушить амерам, что быть поэтом — это высшее предназначение на земле. Ему стоило дать премию только за эту проповедь. Он планомерно двигал идею мессианства. Говорил о «масштабности замысла», распространял антологии американской поэзии по гостиницам: они должны были лежать в прикроватных тумбочках вместе с Библией. Дружил со знаменитостями, выгуливал влиятельных дам, ревновал, если кто-то из его друзей был приближен к знаменитости больше, чем он сам. Был живым, влюбчивым, обидчивым, что только придавало очарования его невыдуманному величию.
Каноническая фотография посещения Игорем Ефимовым поэта Бродского в ссылке висела в доме Наташи на видном месте. Детство она провела в Штатах, интересовалась Россией. Никаких политических фобий не испытывала. О коммунистах имела смутное представление. Была знакома со многими правозащитниками, посещающими их дом, но идеологию изгнания не принимала. Она была веселая девица. Отношения наши развивались преимущественно в разговорном ключе, и, хотя Наташка хвасталась нежными отношениями с неграми, до жарких поцелуев дело у нас не доходило. Я жалел, что я не негр, но инициативы не проявлял. Я «донкихотствовал». Я решил, что барышня меня не хочет. Меня это не коробило. Не исключено, что я и сам не хотел ее, а разыгрывал какую-то платоническую пьесу.
Баловень судьбы, гедонист, любимец женщин и пушистых зверей, я должен был получить толику скорби. Скорбь я старательно поддерживал и нагнетал алкоголем — и уже не знал, что являлось ее первоисточником. Я напивался и бормотал, что люблю ее. Может быть, это характерное для Нью-Йорка психическое заболевание. Синицы в руках отменялись, мне нужен был журавль в небе.