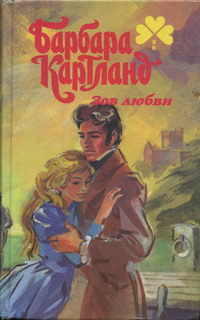Книга Глашенька - Анна Берсенева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Мне это не… – начала было Глаша.
– Чайник вскипел. – Виталий вернулся из кухни. – Какие чашки взять?
– Какие считаешь нужным, – ответила Инна Люциановна. – Ты здесь дома, Котя, ты же знаешь. Как бы ни складывалась твоя личная жизнь.
В тот вечер Глаша взяла себя в руки и кое-как выдержала это чаепитие лишь потому, что в одну прекрасную минуту сказала себе: «Это посторонняя, абсолютно мне безразличная женщина. Ничто не мешает мне быть к ней снисходительной. По-настоящему снисходительной, а не так, как она ко мне».
И долго еще каждый визит в Жаворонки, не говоря уже о приездах Инны Люциановны в Москву, сопровождался в Глашином сознании подобного рода мантрами.
Наверное, Виталий об этом догадывался. Во всяком случае, услышав предложение поехать к его маме вместе, он улыбнулся и сказал:
– Это не обязательно. А вообще…
– Что? – спросила она.
– А вообще отношения с моей мамой являются, по-моему, положительным элементом нашей с тобой жизни.
– Ну конечно, я не вижу в них ничего особенного… – начала Глаша.
– Оставь, Глафира, – остановил ее Виталий. – Я же прекрасно понимаю, что такое моя мама и каково ее выдерживать. Я знаешь о чем? О том, что твои не слишком, мягко говоря, приятные отношения с ней вносят в наши с тобой отношения необходимый реализм. Без моей матушки все было бы слишком идеально, дистиллированно. А так добавляется естественная житейская досада.
– Ну, если тебе это необходимо, то я согласна! – засмеялась Глаша.
Ей отношения с его мамой за три года стали совершенно безразличны. Теперь она с одинаковой легкостью могла бы провести в обществе Инны Люциановны месяц кряду или не видеть ее вовсе.
И то, что в день возвращения из отпуска Виталий поехал в Жаворонки один, означало лишь, что можно без спешки разобрать чемодан, зарядить стирку, отнести в химчистку его белый костюм, на который он пролил вино за прощальным ужином в пустынном замке… В общем, заняться повседневными делами, которые она находила необременительными и даже приятными.
– Скрещенные синие мечи все же можно разглядеть. Вот они, видишь? – Виталий осторожно перевернул чайник и показал знаменитую марку на шершавом донце. Она выглядела бледнее, чем обычно, но действительно была видна. – А что основание бисквитное, неглазурованное, так это и есть примета настоящего мейсенского фарфора восемнадцатого века, – объяснил он. – Английский фарфор проще, мягче, он пропускает влагу, поэтому его глазуровали обязательно. А мейсенский порой оставляли без глазури. – Он поставил фарфоровый чайник на полку и добавил, любуясь: – В позолоту добавляли мед, оттого и этот удивительный оттенок. А вот здесь, видишь? У цветов и у жужелицы по краю сделаны тени, и оттого они кажутся объемными. Завораживает все это!
Нельзя сказать, чтобы Глашу завораживало созерцание фарфора, но рассказывал Виталий так, что заслушаешься. Она даже подумала, что надо будет попросить маму, чтобы та, когда поедет в Москву, захватила ее университетские конспекты. В них, Глаша помнила, было что-то интересное и про фарфор, и она хотела уточнить, что именно, чтобы рассказать Виталию.
– А теперь – принцесса.
Он бережно достал из стеклянной горки статуэтку. Это была фигурка дамы с мопсами, ослепительно-белая, покрытая блестящей глазурью. Для этой фарфоровой скульптуры позировала немецкая принцесса Шарлотта. Виталий однажды рассказал Глаше, что мопсы, один из которых изображен у принцессы на руках, а второй у ног, являются символом некоего секретного дружеского общества.
С тайной, в общем, была эта фигурка. Виталий принялся мыть ее в пышной мыльной пене.
Когда Глаша впервые принимала участие в этой процедуре, то руки у нее дрожали так, что она не решалась прикасаться к статуэткам. И не потому даже, что стоили они каких-то заоблачных денег, а потому, что были чрезвычайно дороги Виталию. Коллекцию начал собирать еще его прадед, и трудно было даже представить, каким образом это хрупкое сокровище вышло невредимым из всех перипетий двадцатого века.
За принцессой с мопсами последовала мейсенская же парочка под названием «Садовник и его жена», за ними – парижская фигурка девушки в восточном духе, украшенная эмалью и позолотой, потом – дивной красоты венские кувшины, в росписи которых темно-бордовые краски сочетались с ярко-зелеными…
Виталий собирал только фарфор континентальной Европы, ни английские статуэтки, ни советская агитационная пластика его не интересовали. Глаша очень ценила, что он рассказывает ей о тонкостях этого занятия: таким образом он пускал ее в ту сферу своей жизни, которая была не менее интимна, чем секс, и даже более, быть может.
С фарфором они провозились до самого вечера и оба устали. Однако, глядя на сверкающие фигурки, даже Глаша испытала удовлетворение, а уж Виталий, наверное, истинную радость.
Радость чувствовалась и в том, как он взял Глашу за руку, когда, приняв душ, она вошла в спальню и подошла к их широкой, резной, черного дерева кровати.
Верхний свет был уже погашен, горел только неяркий торшер с матовым абажуром на бронзовой ножке.
– Жаль, что ты устала, – сказал Виталий.
– Ну, не так уж я устала, чтобы меня жалеть, – улыбнулась она. – Ты, я думаю, устал гораздо больше.
– Я – нет, – возразил он. – Меня фарфор только заряжает энергией. А тебя-то едва ли.
Это была правда. Глаша вообще уставала от каких бы то ни было предметов – от мытья их, сортировки, перекладывания. Только книги были исключением: их она могла перебирать и пересматривать бесконечно. Но книги она и не воспринимала как предметы. Их физическая оболочка каким-то неуловимым образом растворялась в ее сознании, исчезала, и значение имела только неназываемая, нематериальная составляющая.
Это было тем более удивительно, что Глаша много работала со старинными, тонко выполненными, драгоценно иллюстрированными книгами по искусству – и когда училась на истфаке, и потом, в обширной библиотеке Пушкинского заповедника. И не просто работала, а чувствовала и любила их утонченное очарование. И все же внешность книг не была для нее главной. Поэтому, кстати, и электронный их вид ее не отвращал.
Все эти мысли проплыли в ее голове, пока она стояла у кровати и Виталий держал ее за руку.
Его рука сжалась сильнее. Он потянул Глашу к себе. Она качнулась вперед, села на край кровати. Виталий обнял ее, шепнул ей на ухо:
– Приобретенная от фарфора энергия требует выхода.
Она засмеялась. Сняла халат, легла рядом с ним. Он обнял ее крепче, стал целовать, лаская. Их темпераменты совпадали, они подходили друг другу, но это наладилось все же не сразу, и Глаша дорожила гармонией, к которой они пришли.
Она потянулась, чтобы выключить торшер, но Виталий остановил ее руку.
– Оставь, – сказал он. – Я хочу тебя видеть.