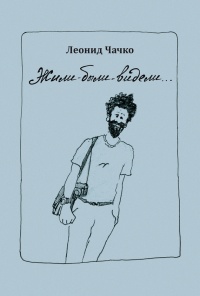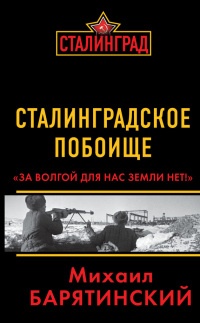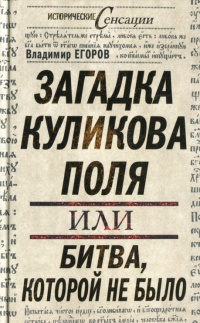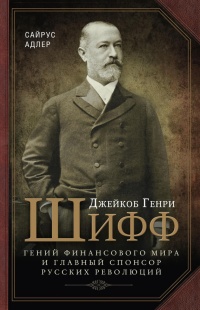Книга Рудник. Сибирские хроники - Мария Бушуева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Приехал я в Иркутск вчера ночью и очень рад, что приехал, так как замучился в дороге и соскучился по родным и знакомым, которым давно уже не писал. Ну-с, о чем же интересном написать Вам? Начну с того, что дорога необыкновенно длинна. От Тюмени до Иркутска я сделал на лошадях более трех тысяч верст. От Тюмени до Томска воевал с холодом и с разливами рек; холода были ужасные, на Вознесенье стоял мороз и шел снег, так что полушубок и валенки пришлось снять только в Томске в гостинице. Что же касается разливов, то это казнь египетская. Реки выступали из берегов и на десятки верст заливали луга, а с ними и дороги; то и дело приходилось менять экипаж на лодку, лодки же не давались даром – каждая обходилась пуда крови, так как нужно было по целым суткам сидеть на берегу под дождем и холодным ветром и ждать, ждать… От Томска до Красноярска отчаянная война с невылазною грязью. Боже мой, даже вспоминать жутко! Сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, вылезать из повозки, опять влезать и т. д.; случалось, что от станции до станции ехал я 6—10 часов, а на починку повозки требовалось 10–15 часов каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку… Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие…» (А.П. Чехов – Н.А. Лейкину. 5 июня 1890 г. Иркутск).
А если та же бесконечная дорога, тысячи километров, в кандалах по этапам?
Лишенный за бытность в шайке мятежников, как значилось в приговоре, всего правосостояния по конфирмации командующего войсками Киевского военного округа и сосланный в Нерчинские рудники на каторжные работы, Краус сначала содержался в киевской тюрьме, потом в каземате Санкт-Петербурга, дальше Москва, Колымажный двор – и в Сибирь. По рекам переправляли не на пароходах, а на баржах, где спали политические вместе с уголовниками под палубой, за Уралом снова начинали стучать подводы, были грубые конвоиры, были злые окрики и даже рукоприкладство, два поляка, уже явно не в себе, кинулись на жестокого конвоира, пытаясь отнять у него оружие – оба были убиты охраной…
Но Краусу попался симпатичный веснушчатый парнишка-конвоир из крестьян, Тимофей Локтев, отдававший, когда никто не видел, своему ровеснику-арестанту часть своей еды. Иногда, если уже все спали, они беседовали. Краус, выросший на Волыни, владел, кроме немецкого и французского, украинским и русским. Родным языком он всю жизнь считал польский.
– Чего ж вы против царя-то пошли? – начинал рассуждать Тимофей Локтев, недоумевающе улыбаясь. – Царь ведь не нами поставлен, а самим Господом. У нас вот в деревне старик живет, Чубатый его зовут, он нам про Индию рассказывал, и вот что говорил: там, в Индии, как еще только человек народился – уже на своем месте: ежели на свет явился во дворце, значит, так его Бог отблагодарил за хорошие, добрые дела в его жизни, что была у его раньше, ибо, Чубатый учил, помрет человек и снова родится, душа его бессмертна, значит, новое тело отыщет. А коли был человек дурен да зол, других притеснял, вот и его в другой-то его жизни будут тоже притеснять. Потому Чубатый учил, терпи. Что получи, то и заслужил. А ты, выходит, терпеть не стал, на царя пошел…
– Царь-то не наш…
– А вот что я думаю: нет у нас на всей земле правды и христьянской любви, пока существуют эти двое – «наш» да «ненаш». От их все беды… Вот мой хлеб – он ведь тебе тоже «ненаш», а я даю и говорю – бери, и ты ешь, не отворачиваешься, и хлебушек становится «наш», а ты мне как родной брат. Так и мир…
– Но ведь не войдешь ты в царский дворец и не скажешь, что он общий, то есть, как ты выражаешься, «наш»?
– А ты погоди, и во дворец войду!
– Так ты революционер, Тимофей Локтев! И твой Чубатый тоже.
– Старик он…
* * *
В Перми долго держали в тюрьме, безобразно кормили, но голод был столь силен, что Викентий поймал себя на полном исчезновении своей обычной брезгливости; потом снова затряслась дорога, обессилевшие лежали на телегах, а он, хромая, часто шел пешком, прикованный к подводе цепями. Но в Тобольске попал в лазарет: внезапно началась горячка, старый фельдшер обнаружил воспаление почек – арестантский халат плохо защищал от сквозных свищущих ветров. Лазарет был тюремный, в маленькой душной комнате на привинченных к полу железных кроватях стонали больные: на свободные положили пана Кравчинского, свалившегося от пневмонии и мучающегося кашлем Янека Романовского, а рядом с Викентием оказался травмировавший о телегу спину длинноносый австрийский подданный Курт фон Ваген, – схваченный в Варшаве.
– Агнешка! Агнешка! Агнешка! – в бреду повторял Кравчинский, иногда садясь на постели и бессмысленно оглядывая комнату. – Агнешка! Ты где?
Краус впадал в полузабытье: ноги отдельно от него все шли, и шли, и шли. Но в больных грезах стал меняться пейзаж, исчез хмурый Тобол, шумевший невдалеке, растворилась петербургская тюрьма, колокола Москвы поплыли, растеклись, а кресты, точно птицы, стали вспархивать и улетать, и лишь один, золотисто улыбающийся, сел на ладонь Викентию, и какое-то девичье лицо, с маленьким круглым подбородком и светлой короной волос надо лбом, тут же возникло… и сразу ярко вспыхнуло лицо Оленьки, Ольгуни, киевской подруги, первой любви.
– Викентий, милый, – уговаривала она, – зачем ты с ними? Зачем кровь, зачем бунт? Ты ведь наш, волынский… Я против, против! Моя бабушка – русская, меня назвали в честь нее. И мы все славяне, понимаешь? И твоя мама польской крови! И все, что вы затеяли, дурно и кончится дурно! Отец приехал из Львова: поляки буквально истязают бедных крестьян-русинов! Я знаю, ты в этом не замешан, ты веришь в торжество правды и чести… Но вас всех арестуют! И отправят далеко-далеко! Мы с тобой никогда не видимся!
– Ты Кассандра… Кассандра…
Приговор: шесть лет кандальных работ на Нерчинской каторге.
Тобольск исчезал, куда-то проваливался навсегда лазарет, шестилетнего Викентия снова везли из Галиции на Волынь, кудрявилась листва, вышивали свои узоры ласточки, старый отец гладил его по влажной челке.
Курт фон Ваген наклонялся к Викентию, трогал лоб.
* * *
Николай Леонардович фон Краус – потомок старинного немецкого рода, месяц назад срочно продал свое обветшалое имение бывшему своему крепостному и управляющему: только что кончился период военной диктатуры в Галиции, ставшей реакцией власти на революционные события 1948 года, – и Николай Леонардович потерял освобожденных законом крепостных и землю, ставшую собственностью крестьян.
– Впрочем, все это громко звучит, Викентий, – говорил он в дороге с сыном, а на самом-то деле – с самим собой. – Крепостных-то было у нас всего трое: няня твоя Ирма, муж ее Богдан, на котором все наше скудное хозяйство и держалось, да дочь их, что кухарила… Теперь наш с тобой клочок земли им перешел. И вот что поразило меня, сын, Богдан ведь, казалось, был предан мне сердечно, а ныне так огрызается и глядит, точно всегда ненавидел… Хорошо Катаржина не дожила. Больно видеть, как был ты обманут в своих лучших чувствах…