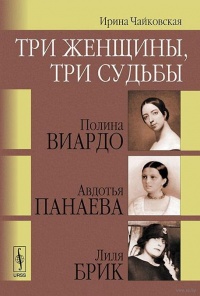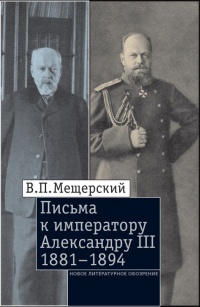Книга Загадка Ленина. Из воспоминаний редактора - София Таубе-Аничкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
От этих же рабочих — крестьян Тульской и Владимирской губерний — мне удалось услышать следующие частушки:
Когда разговор заходил о том, кто из русских мог бы стать во главе России после свержения большевиков, почти все (не исключая и интеллигенцию) указывали: «Безусловно, кто-либо из тех, кто сейчас до первого удобного случая идет под советским флагом».
О приходе к власти кого-либо на членов Временного правительства никто не допускает и мысли так же, как не представляют возможным и восстановление монархии.
«Монархизм просто устарел для России, — сказал мне однажды А. Ф. Кони, — насколько мне приходилось наблюдать, народ не питает злобы к монархии, и несколько лет назад она могла быть еще восстановлена, но сейчас это психологически невозможно. После большевиков России необходима будет военная диктатура, а в дальнейшем какая-то новая, может быть, еще не бывалая нигде форма правления».
Глубокое возмущение вызывают усиленно культивируемые большевиками среди населения сведения о происходящих в среде эмиграции распрях по поводу того, кто «возглавит Россию.
«Заместо дележки власти раньше каким бы то ни на есть способом с большевиками бы справились, а потом уже, в своей избе на кулачки шли, пока народ рассудил бы кого захочет», — говорят на это рабочие.
Уже давно в отношении ко мне возглавлявших фабрику коммунистов я заметила какую-то перемену, что-то новое, недоговоренное.
По виду все оставалось по-прежнему: я продолжала пользоваться разными льготами, со мной были изысканно любезны, мне доверяли, но никакое доверие не могло изменить факта моей принадлежности к враждебному классу, и — когда надежды на скорое падение советской власти рушились, а преследование интеллигенции приняло повальный характер — меня стали побаиваться.
Я была, как сказал мне когда-то при выдаче мандата в Москву председатель, «все-таки классовый враг», хорошее отношение к которому теперь — не без основания — являлось рискованным, тем более что большинство служивших на фабрике интеллигентов уже рассеялось или было рассеяно по тюрьмам и могилам.
По-видимому, единственным, предохранявшим меня от увольнения условием являлось безмолвно, но красноречиво наложенное на меня высшей инстанцией «табу», то есть, невзирая даже на то что, укрепившись, власть перестала считаться с рабочими Экспедиции, так же как и со всеми другими, моя деятельность протекала по старинке — меня не трогали.
Это импонировало занимавшим на фабрике высокие посты и вследствие этого уже значительно воспринявшим «новую идеологию» коммунистам смягчало опасение ответственности за дарование мне поблажек, и все шло по-старому даже после того, когда я отказалась включить в репертуар драматической студии предложенную ими революционную пьесу.
Но мысль, что я «неудобна», нервировала меня, и, получив теперь возможность зарабатывать устройством общественных литературных вечеров и выступлением с танцами, я решила покинуть Экспедицию.
Заявление об этом было встречено моим начальством самым неподдельным изумлением и протестами.
— Я решила уйти, — пояснила я, — потому что моя служба на фабрике несовместима с литературной работой, да и по некоторым другим причинам, о которых говорить не стоит. Во всяком случае о рабочих Экспедиции и их отношении ко мне я сохраню самые лучшие воспоминания.
— Ну, может еще вернетесь к нам, когда журнал можно будет выпускать, — убежденные, что при советской власти этого никогда не будет, напутствовали меня коммунисты, — а пока не забывайте нас, почаще навещайте.
Искренно были огорчены моим уходом учащиеся студии.
«Мы без вас и в Отдел ходить не будем, а вы уж позвольте когда к вам забежать хоть поглядеть на вас», — говорили рабочие и работницы. (Действительно, вскоре после моего ухода студии за отсутствием учеников прекратили существование.)
Но никто не был так удивлен моим поступком, как комиссар печати, тотчас, конечно, усмотревший в этом нечто подозрительное.
— Что это значит? — вызвав меня к телефону, спросил он. — Мне сообщили, что вы покинули Экспедицию.
— Да.
— Вы собираетесь уехать из Ленинграда?
— Пока — нет.
— Почему же вы ушли?.. У вас есть в виду что-нибудь более выгодное?
— Напротив — менее выгодное, но я предпочла уйти, пока меня не попросили об этом.
— Разве вам что-нибудь говорили по этому поводу в фабкоме? Отчего же вы не сказали мне?
— Никто и ничего не говорил, а заставило меня поступить так преследование вами интеллигенции.
— Вы-то при чем здесь? Пока вы ведете себя по отношению к нам прилично, вас это не касается. Я уже не раз говорил вам об этом.
— Да, но в любой момент может коснуться, потому что понятия о «приличиях» у нас с вами слишком различны. Какой-нибудь мой faux pas (ложный шаг. — Примеч. ред.) мог бы показаться столь «неприличным» по отношению к коммунизму, что я не только потеряла бы место, но и свободу.
— Странно, что вы до сих пор не делали таких «ложных шагов», а теперь вдруг не ручаетесь за себя… На что же вы будете жить?
Я пояснила комиссару, добавив:
— Подмостки — область менее рискованная, чем постоянное, непосредственное общение с рабочими, поэтому я избрала ее, попутно, конечно, продолжая заниматься литературой.
— Дело ваше… Во всяком случае, программы устраиваемых вами вечеров вы, как и до сих пор, доставляйте для просмотра мне, прилагая к ним также то, что предполагаете читать.
— Но ведь эстрада — не ваша область.
— Мало ли что. Рассуждая так, вы вообще не должны были предъявлять мне программы и особенно с тех пор, как я не состою гласным представителем печати, но вам ведь известно, что все, относящееся к той или иной форме агитации и пропаганды, остается по-прежнему в моем ведении. Почем я знаю, что вам вздумается… Может быть, вы станете пропагандировать с подмостков какие-нибудь вредные нам идеи.
— В стихах?..
— Отчего же?.. Это еще действеннее, чем в прозе, потому что талантливые и хорошо прочитанные стихи запечатлеваются в памяти лучше.
— Хорошо, я буду доставлять вам программы и свою «пропаганду».
С тех пор, как открылись границы, я регулярно, дважды в год подавала заявления о желании выехать «на месяц для лечения» и каждый раз получала стереотипный ответ: «не разрешается».