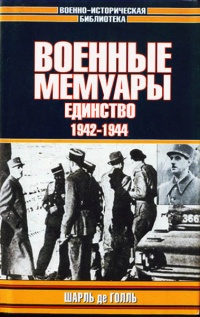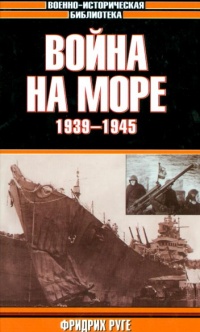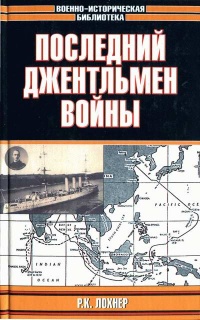Книга По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России - Михал Гедройц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У немногочисленных везунчиков были друзья — а еще лучше родственники — в Тель-Авиве и Иерусалиме. Я был из их числа: дядя Хенио все еще ожидал в Тель-Авиве назначения и всегда был готов оказать своему крестному сыну отцовское гостеприимство. Я провел у него несколько выходных, в том числе и длинные пасхальные каникулы апреля 1944 года. Вместе мы впитывали еврейскую атмосферу уличных кафе, обнаруживая в процессе сильную польскую культурную подоснову. Большинство еврейского населения Палестины было родом с польско-литовских территорий. Они еще помнили польский язык и говорили с нами с ностальгией и, как казалось, с определенным удовольствием. Нам давали понять, что мы желанные гости. В это время генерал Андерс проявил в Палестине недюжинную доброжелательность, когда более трех тысяч (из порядка пяти тысяч) польских солдат еврейского происхождения дезертировали во время перехода через Палестину. Британские власти, опасаясь, что эти прекрасно обученные люди вступят в еврейское подполье, потребовало облав и военных трибуналов. Но Андерс отказался устраивать на них охоту. Он лучше чем кто бы то ни было понимал мотивацию людей, стремящихся к независимости. Еврейское сообщество в ответ демонстрировало дружеские чувства, которые они сосредоточили на кадетах, оставшихся после польской армии на северной оконечности пустыни Негев. (В конечном итоге британцы оказались правы: одним из дезертиров Андерса был не кто иной, как капрал Бегин из Пятой Кресовой пехотной дивизии, ответственный за взрыв в иерусалимской гостинице «Царь Давид» 22 июля 1946 года, в ходе которого жизни 91 человека были принесены в жертву израильской независимости.)
* * *
Сэр Джон Колвилл, правая рука Черчилля, в книге «Доблестный муж» упоминает разговор 21 сентября 1940 года между премьер-министром Черчиллем, фельдмаршалом Гортом и командующим военно-воздушными силами маршалом Даудингом. Премьер-министр заявил, что один поляк стоит трех французов. «Скорее десяти!» — ответили Горт с Даудингом. В темные дни 1940–1941 годов польских воителей действительно превозносили до небес, они были нарасхват у хозяек лондонских салонов. С 1943 года хвалы поутихли (в героях теперь ходили советские), но Андерса и его 80-тысячную армию продолжали высоко ценить и привечать. Поэтому проявляли интерес и к нашей школе: ее уникальной, рассчитанной не на один год технологии пополнения офицерского состава войска — и его образцово-показательному детищу. В итоге мы получали потоки высокопоставленных посетителей, как англичан, так и поляков. Возможно, их было слишком много, они отвлекали кадетов от обычных занятий. Но лично для меня парад 3 мая 1944 года стал радостным переломным моментом. Хотя мой испытательный срок еще не закончился, меня сочли достойным маршировать с оружием вместе с моими товарищами. Финальный аккорд прозвучал в июне, когда меня произвели в кадеты.
Наша армейская жизнь была гораздо более самоуглубленной, чем гражданское существование в Тегеране. Мы обращали мало внимания на мир политики, учились, проходили военную подготовку и с завистью следили за успехами наших старших товарищей на итальянском фронте. Мы ликовали, когда узнали о взятии Монте-Кассино 18 мая Вторым польским корпусом генерала Андерса. Нашим корпусом и нашим генералом! Потом они захватили Анкону и освободили Болонью. Мы купались в отраженных лучах их славы. А в августе мы с удовлетворением узнали, что Первая польская танковая дивизия отличилась в Нормандии, сыграв роль крышки к Фалезскому котлу, в котором оказалась заперта отступающая немецкая армия и 50 тысяч сдались в плен.
Тем временем наши собственные, лагерные политические маргиналы поднимали тревогу. Большинство кадетов презирали политику, но небольшая группа умных маргиналов под предводительством кадетов Песецкого (подающего надежды эрудита) и Корбуша (будущего полиглота) погружалась в нее со всей страстью. Этим молодым людям не следовало здесь учиться. Они относились к нашему двугорбому образованию — военной подготовке на прочной (хотя и общей) базе школьного образования — с плохо скрываемым презрением. Они стремились к активной политике, критиковали партийные распри лондонских поляков и требовали, чтобы на смену дискредитировавшим себя политикам приходили люди более молодые — уж не они ли сами? На манифест не тянуло.
Но именно они, наши капитолийские гуси, лучше других понимали, насколько мрачные тучи сгущались над Польшей. Конечно, тогда никто не знал, что на Тегеранской конференции восточную часть Второй Польской республики отдали Советскому Союзу — даже Эдвард Рачинский, польский Посол при Сент-Джеймсском дворе.[48]3 января 1944 года советские войска вошли на довоенную территорию Польши, объявив ее собственной территорией. Наши политики обратили внимание, что 22 февраля 1944 года Черчилль в Палате общин заявил, что линия Керзона (по реке Буг) должна стать новой польской границей на востоке. В течение августа и сентября они болезненно переживали, что Варшавское восстание не имело адекватной поддержки от западных союзников Польши. И в феврале 1945 года они понимали, что в действительности означает ялтинская сделка.
Все остальные, хотя и знали о том, что происходит, просто продолжали жить своей жизнью. И как-то продолжали надеяться, что Запад как-нибудь решится противостоять советской угрозе. Генерал Андерс и его подчиненные считали, что вооруженное столкновение между англосаксами и советскими неизбежно и уже не за горами. Эти надежды доходили и до наших командиров. Если у них были собственные сомнения, они о них не распространялись. Подозреваю, что они знали, как уязвимы мы были после пережитого, и пытались защитить нас от следующего удара.
Среди всех этих катаклизмов, в той или иной мере забыв о них обо всех, я прожил свой напряженный пятнадцатый год. Mała Matura, польский аналог GSCE, страшил, но когда 31 июля пришли результаты, они были более чем удовлетворительны. Моей наградой должен был стать долгий отпуск в Каире, где теперь служил мой дядя Хенио.
Первого августа, в день, когда началось Варшавское восстание, те из нас, кто направлялся в Египет, собрались на железнодорожной станции Эль-Майдал. Я увидел среди них Владыша Бонецкого и его друга Витека Ярмоловича по прозвищу Зоська, оба были из пятой роты. Мы все трое направлялись в Каир, и это отделяло нас от остальных. Отцы Владыша и Витека были офицерами, товарищами по Первому уланскому полку, с которым у моих родителей были особенно тесные связи. Но это было еще не все: в Эль-Майдале я узнал, что мы все трое едем в одно и то же место в Каире: № 10 по улице Науаль. Это не было совпадением. Дядя Хенио, к которому я ехал, жил в маленьком частном пансионе, который основала Зося Бонецкая (мать Владыша) для немногих избранных. Этим летом она оставила для нас троих отдельную большую комнату. Так она отдавала долг моей матери за доброту к Владышу в лагере № 3 в Тегеране и за гостеприимство перед этим, когда после входа советских войск она с детьми оказалась без крыши над головой в 1939 году и их приютили в «Доме под лебедем» в Вильно.
Ночная поездка на поезде в Каир была приключением. Первая половина пути была пыльной и сонной; поезд катился по пустыне за Газу, минуя Рафах и Эль-Ариш, к Эль-Кантаре, где, чтобы пропустить нас, над Суэцким каналом эффектно опустили мост. На военной базе Эль-Кантары утомленному путнику в военной форме предлагался ранний завтрак. Он был больше похож на réveillon,[49] поскольку дело было вскоре после полуночи. Для нас, вырвавшихся из лап неумелых польских поваров, это был пир: яичница, бекон, тост с джемом и кружка чая, который можно было найти только в британской армии.