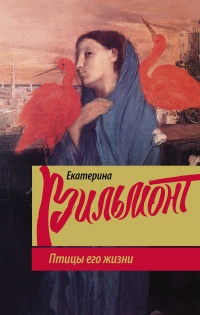Книга Колокола - Ричард Харвелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но победить свой слух я не мог, как и не мог задержать дыхание настолько, чтобы умереть. Мое сердце все так же стучало, как барабан, отсчитывая секунды жизни. Проснувшись ночью, полусонный, я вырывался на свободу и заключал в объятия дребезжание окна, как будто это был голос любовника. Или, что еще хуже, я просыпался от звона колоколов моей матери или рокочущего баса Николая. Простыни подо мной были мокрыми от пота, и отголоски сна звучали в моих ушах. В эти мгновения я закрывал глаза, отпирал хранилище памяти, и мое воображение дегустировало прелести всех когда-либо слышанных мною звуков. И сердце мое воспаряло. Надежда на то, что я могу быть счастлив в этом прекрасном мире, снова начинала просыпаться во мне.
А потом я открывал глаза и понимал, что все еще нахожусь в своей келье, в своей тюрьме, в своем несовершенном теле, и снова презирал себя за то, что вижу сны.
Однажды ночью я принял решение положить этому конец. Украл у одного монаха перо для письма. Сел на кровать. Света в комнате не было, кроме лунного луча на полу. Я повертел перо в руках, воображая, как его позолоченный кончик разрывает барабанные перепонки в моих ушах. Так я сидел долго, пытаясь найти какую-нибудь причину, чтобы не делать того, что я собирался сделать. И вместо того чтобы взбунтоваться, звуки в моей памяти, казалось, начали постепенно затихать — в первый раз с тех пор, как я начал с ними войну, поддаваясь мне. В этот ранний утренний час аббатство и город смолкли, и мне показалось, что шорох деревянной палочки, которую я вертел в руках, был единственным звуком в мире.
И когда мой слух оставил все попытки к сопротивлению, я поднес перо к правому уху и приготовился одним ударом погрузиться в вечную тишину.
Три раза в жизни моя мертвая мать звала меня звуком колокола. Той ночью это было в первый раз: аббатский колокол пробил два часа. Два резких удара прозвучали в тот самый момент, когда я готов был лишиться своего самого совершенного чувства. В гнетущем молчании окружающего мира эти два удара разбудили мои уши. Они вцепились в угасающий звон и десять — двадцать секунд не выпускали его, пока до меня не донеслись слабые его отголоски из самого дальнего конца города.
И стал бы я глухим, как ты, мать моя.
Я услышал шелест ее ног, танцующих по деревянному полу. Я услышал, как тело ее звучит вместе с колоколами. О, ее тюрьма была гораздо хуже моей! Мой мерзкий отец все время прятался где-то рядом с ней. И все же в каждом звуке она с восторгом выражала то, что воспринимала всеми фибрами своего тела. И я — столь благословенный идеальным слухом — сейчас был готов уничтожить его.
Перо со стуком упало на пол, и я с ужасом уставился на него, как будто это был окровавленный нож. В комнате внезапно стало так душно, что я не мог дышать. Я распахнул настежь дверь, но воздух в коридоре показался мне еще более спертым. Потолок и стены валились на меня. Я повернулся и бросился через комнату к окну. Едва смог протиснуть в него плечи. Ночной воздух был свеж, а небеса высоки — я взахлеб пил холодную летнюю ночь, и мне очень хотелось сбежать отсюда. Я протиснулся в окно и скорчился на подоконнике, прижавшись к деревянной раме, чтобы не свалиться во внутренний двор, видневшийся далеко внизу. Безбрежное пространство надо мной вытягивало меня из моей тюрьмы. Мне очень хотелось стать свободным! Я выпустил из рук оконную раму и пополз вверх по черепице крутой крыши, пока не лег, едва дыша, на самой ее верхушке.
В лунном свете сверкало белое аббатство. В рядах серых крыш черными расселинами зияли городские улицы. Я прислушался к окружавшему меня миру.
Где-то плохо закрытая ставня отворилась и с грохотом ударилась о стену дома. Собака залаяла. Крыса шмыгнула по улице и остановилась, чтобы поглодать гниющие огрызки. Вода сочилась между булыжниками мостовой и, тинькая, падала в сточную канаву. Чьи-то шаги проскрипели в доме. Легкий ветерок гудел, проносясь по аллеям. Где-то, заскулив петлями, открылась дверь. В теплой ночи хозяйничали крысы, кошки и собаки. Они копались в отбросах и бросались друг на друга. Я слышал, как спит город. Я слышал тяжелое дыхание грузных мужчин и вздохи женщин. Я слышал храп. Я слышал, как люди во сне бормочут свои желания.
Мир снова стал громадным, и мои уши слышали каждый его звук.
Я мог бы стать хорошим вором-домушником, надели меня Господь любовью к серебру, а не к звукам. Каждую ночь я сбегал из своей тюрьмы, и вскоре мне стало ясно, что я был не первым, кто это сделал. Пойдите загляните в любой из всех этих так называемых великих монастырей Европы. Под воротами аккуратно выкопаны ямы, на окнах нижнего этажа сломаны затворы. И вдобавок ко всему в подвалах вырыты секретные туннели с потайными дверями, о которых, предположительно, должно быть известно одному лишь аббату. Правда, знает о них и каждый монах, мучимый похотью или любопытством — а этим, верно, не мучился только тот, у кого иссохла душа.
В плохую погоду я отваживался пользоваться одним из тех путей, которые были облюбованы другими монахами. Предпочтение я отдавал туннелю, веками вырубавшемуся в фундаменте конюшен мальчишками-коноводами, которым было лень окольными путями ходить к воротам. Но когда земля была сухой, и ее не мочили ни снег, ни дождь, и не дул свирепо ветер, я карабкался на крышу. В самом начале, трепеща от ужаса, я мелкими шагами пробирался по закругленной черепице вверх, к гребню крыши; позднее я стал взбираться туда одним прыжком. В самом конце крыла здания я спускался по крыше вниз и спрыгивал на верхушку средневековой башни, единственной, что осталась от старого, несовершенного аббатства. Проходил под окнами комнат аббата, в которых от заката до рассвета мерцал огонь лампы. Хвала Господу, аббат никогда не подходил к окнам, чтобы поразмыслить о несовершенстве мира.
Я стрелой мчался по стене, отделявшей аббатство от города протестантов. Многочисленные дома подступали прямо к ней, и по их неровным крышам я спускался на землю.
Там наконец я обретал свободу.
Обретал ее конечно же только для того чтобы прятаться, но зато в любой тени, какую ни пожелаю. Я украл кукуллу[31]и надвигал капюшон на лоб, чтобы в его глубине никто не увидел моего бледного лица. Я все время прислушивался к приближающимся шагам, к повороту ключа в замке, к бессонным вздохам, доносившимся из раскрытого окна. Звон церковных колоколов был моим компасом, и каждый час я ловил ухом их громкость и тон, определяя свое местоположение. Без них я бы потерялся в извилистых улицах, лишенный дневных звуков, которые когда-то направляли Ремуса и меня к дому Дуфтов.
Звуковые пейзажи, подобно картинам, состоят из нескольких слоев. Их основу образует ветер, который, по правде говоря, сам звуком не является, но создает звуки, забавляясь с городом: лязгает незапертой ставней, гудит в замочной скважине, делает свистульку из жестяного ножа — герба мясника, висящего над его лавкой. Вместе с ветром приходят другие звуки, звуки погоды: скороговорка дождя на булыжнике мостовой, а вот он же капает с карнизов, и опять он стремительно несется по сточным канавам. Вот шуршит дождь со снегом.