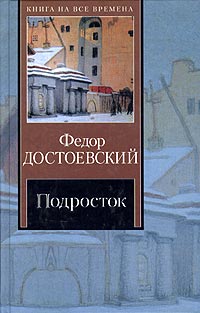Книга Избранное - Иоганнес Бобровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вот как? И, стало быть, Глинский… Но при чем тут Глинский? Чего-то я в толк не возьму.
— Да ты ведь знаешь, отец, Левин подал на Иоганна в бризенский суд, вот мой старик и думает, что настало время немцам постоять друг за друга.
— Ну еще бы, это он, конечно, прав, — соглашается Фагин.
— Да, но как же быть Левину?
— Что за вопрос! Пусть убирается к себе в Россию со всеми своими причиндалами.
Так они толкуют промеж себя. Но с чем же все-таки убираться Левину? Уж не с теми ли обломками, что снесло по Древенце? Не с жерновами же, в самом деле! А что у него еще осталось? Разве что Мари? Но вздумай он явиться с ней к своим, не очень-то им обрадуются там, в Рожанах.
— Не твоя это печаль, — уговаривает Кристину Фагин. — Твой старик все обтяпает как нельзя лучше. Сама видишь! — С этими словами он возвращается в горницу.
И в самом деле: мой дедушка сидит между Глинским и его супругой, сегодня ему принадлежит заключительное, решающее слово, иначе говоря — четвертый пункт, а он гласит: «Сказано — сделано!»
Наконец все точки над «i» поставлены. Глинский не только обещал деду ландрата всего целиком, со всеми потрохами, но также и бризенский суд, потому что господин фон Дрислер в близком родстве с окружным судьей Небенцалем. Итак, разбирательство будет отложено, для начала отложено.
— Будьте благонадежны — я все устрою, и не дальше как на той неделе! Нет, завтра же!
Итак, сказано — сделано, объявил мой дедушка. И больше об этом ни звука.
— Ну что, Хабеданк, — окликает он, — как ваша скрипка, в порядке?
— Скрипка-то в порядке, — отзывается вместо Хабеданка Виллюн, — да только музыкантам не мешало бы горло промочить. Два-три стаканчика, и можно за танцы.
— Истинный христианин и немец этот мельник, — поясняет пастор Глинский своей пасторше, да будет его Натали известно, что на ближайшее время благословение божие снизойдет на них из Неймюля. А теперь еще малость потолковать о твердой вере, и в заключение: как было бы хорошо, если бы все они стояли друг за друга, христиане и немцы, а уж остальные как знают, нам до них дела нет. Мы же здесь уже стоим друг за друга, мы предшествуем остальным, подаем благой пример. И тут в пляс пустилась Пальмиха, та самая долговязая брюнетка, и, конечно же, с Тетмайером. Но нам они не указ. Пусть сами о себе заботятся.
— Эй, Густав! А где же обещанный стаканчик?
— Это можно, — говорит Густав.
Итак, четвертый пункт у нас позади, да и вообще мы изрядно продвинулись вперед в нашей истории о мельнице, что как стояла, так и стоит, и о Корринте и Низванде, что посиживают в той мельнице или перед ней, в хорошем или дурном настроении, и о другой мельнице, которой уже в помине нет, ибо ее некой ночью разнесло на мелкие части и смыло водой, — в этой истории о поляках и немцах и о молодом еврее Левине, этом долговязом олухе с его Марьей, этой самой Мари, — мы изрядно продвинулись вперед в нашей кульмской истории, которая могла бы разыграться и в окрестностях Остероде, но только позже, или в окрестностях Пултуска, но тогда значительно раньше, а если на то пошло, то и в лесистой местности вокруг Выштитского озера или еще севернее, в Литве, но тогда Глинского звали бы Адомейт, Пильховский, что теперь именуется Пильхом, стал бы зваться Вилькениз, а впоследствии Вильк, — тоже литовское имя, но не так режет ухо, Видерского звали бы Науйокс, Гонзеровского — Ашмутат, Урбанского — Урбшис, или же наша история могла бы разыграться в Латвии, но тогда много раньше, — вот какая это история. Дело не обходится без неприятностей, как оно и было до сей поры, и еще больше их предвидится впереди, если мы будем продолжать наш рассказ. Но сейчас, во всяком случае, здесь, как говорится, тишь да гладь.
Хабеданк уселся у окна, еще не закрытого ставнями, и смотрит наружу. Тетмайер поет, а Виллюн по-прежнему возится со своим черным ящиком, нажимает на кнопки и все невпопад, и опять его разбирает досада, которую давеча он сумел подавить: этот Пальм расселся со своей долговязой супругой, тогда как порядочные люди ноги себе отстаивают и в горле у них пересохло; и опять в нем закипает злоба, не долго думая, выкладывает он все, что у него на душе, тогда как старик Фагин, расхаживая по комнате с бутылкой, каждому наливает и с каждым чокается в особицу; Кристина в конце концов отнимает у него бутылку, а фрау пасторша просится домой, и у Глинского багровеет лицо, он ей свое, а она ему свое. Но тут жена Густава появляется с солеными огурчиками, нет лучшей закуски под водку, чем соленые огурчики, одна миска огурцов сменяет другую, и мой дедушка — чтобы снова к нему вернуться — уже как следует на взводе и даже сам это замечает. А может быть, он не прочь потанцевать? Это еще что за глупости! Пусть себе танцует Пальмиха, эта цирковая лошадь, да, пожалуй, и свояченица, и Густав, молодой шалопай, — и даже не только с фрау пасторшей. Интересно, над чем эта особа все посмеивается в кулачок? А теперь давайте что-нибудь по-настоящему немецкое, хотя бы рейнлендер. Ну-ка, что еще танцуют у немцев? Что ж, можно и шибер. Мой дедушка стоит подле Виллюна. Какими же судьбами? Что его сюда принесло? Уж не то ли, что Виллюн вцепился в бутылку? На то похоже, но дело совсем не в этом. Дедушка хочет сказать речь, вот почему он стал среди комнаты. Так что же он хочет сказать? К примеру: «Достойнейший человек этот Глинский, такой истинный немец, такой немец, и то же самое его супруга, его досточтимая супруга, кобылка чистых кровей, фрау пасторша, такая истинная немка, такая немка».
Нечто в этом роде.
— Господа, — говорит дедушка, он в отличном расположении духа, — господа хорошие! — Он вскидывает голову, точно добрый конь, широко разводит руки и неожиданно валится на печку. — Господа хорошие!..
— Ну и нагрузился же ты, — говорит Кристина, берет его за плечи, разворачивает к себе спиной и шепчет повелительно: — А теперь марш в кровать!
Мой дедушка делает шаг вперед, только не слишком удачный, этот шаг недостаточно тверд для той речи, которую он намерен произнести. Ладно, думает он, окуну-ка я голову в таз, все у меня и пройдет, а когда вернусь, то как следует отпою этому вшивому скрипачу, этому пролазе-цыгану, а заодно и Тетмайеру,