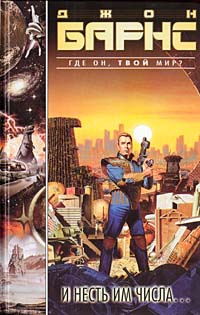Книга Вслед за змеями - Джезебел Морган
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Подземный лабиринт поражал. Марья брела по нему, даже не пытаясь запомнить дорогу, восхищаясь богатством и изобилием резных камней и блестящих металлов. Строгая, сдержанная красота покоев сменялась расписными сводами и ярким блеском отполированных изумрудов и рубинов. Сложные цветочные орнаменты плавно перетекали в завитки волн, темнота морских глубин обращалась предрассветным небом, уже затронутым розовым турмалином встающего солнца.
И нигде, нигде не было ни одного изображения змеи, осточертевшего еще в поместье.
Марья не знала, хорошо это или плохо.
Одну из пещер прорезал луч света, белесый, полный танцующих пылинок. Марья подставила ладонь под свет, и он стек по пальцам вниз, словно вода. Расщелину или окно-бойницу, через которую мог бы струиться луч, она так и не нашла, словно он рождался из подгорной темноты, чтобы в ней же и раствориться.
Марья шагнула сквозь него и оказалась перед девушкой с коротко остриженными золотыми волосами. У шеи они завивались мелкими колечками, на затылке же лежали тяжелыми, блестящими прядями. Она увлеченно ткала кружево, коклюшки так и мелькали в ее руках, только ритмичный костяной перестук раздавался.
Марья облизнула губы и хриплым шепотом спросила:
– Что ты ткешь?
Девушка даже не оглянулась, не отвела взгляда от узора на вале, продолжила переплетать нити – тонкие, блестящие, меняющие цвет.
– Подойди и взгляни. – У нее оказался низкий, хрипловатый голос вечной пленницы промозглых пещер.
Марья обошла ее и вздрогнула, заметив в человечьей серой радужке тонкие змеиные зрачки. Девушка поймала ее взгляд и улыбнулась, прежде чем вновь углубиться в ремесло. За валом тянулся длинный шлейф кружев – прямой и безыскусный, один узор повторялся и повторялся в нем, только нити цвета прихотливо меняли.
За спиной девушки темнела дверь – огромная, двустворчатая, из дерева, почерневшего от времени.
– Пропусти меня, – попросила Марья, нутром чуя, что туда-то ей и надо.
– Пропущу, – змеедева кивнула, и стук коклюшек замолк, заставив Марью вздрогнуть от внезапно обрушившейся тишины. – Но у тебя есть то, что мне нужно. Сначала отдай мне это.
Марья растерянно пожала плечами, охлопала себя по карманам. Здесь у нее и своего-то ничего не было, даже одежда – и та с чужого плеча. Но за пазухой нашлось яблоко, а в кармане – серебряная веточка. Марья протянула их кружевнице, но та бросила на ее ладони короткий взгляд и снова отвернулась к рукоделию. Стук коклюшек возобновился, и было теперь в нем что-то совершенно жуткое.
– Но у меня больше ничего нет, – возразила ее молчанию Марья, сверля недовольным взглядом золотой затылок. – Можешь сама убедиться! Только пропусти меня!
– Врешь и не знаешь, что я и сама могу взять, что мне надобно.
В ее тихом голосе не было враждебности, только деловитое равнодушие. И это раздражало сильнее всего.
– Ну так бери! – Марья вспылила и рывком повернула змеедеву к себе лицом. – И как я могу врать о том, о чем сама не знаю?
– А раз не знаешь, то как отдашь? А отдав, не пожалеешь ли?
Даже вопросы она задавала со слепым безразличием камня.
Марья заставила себя успокоиться, покосилась на темную дверь за спиной кружевницы – нет, не получится проскользнуть мимо, а чтобы ссориться с непонятными подземными тварями, Марья была еще не достаточно безумна.
– Не пожалею, что бы ты у меня ни взяла. Только пропусти.
– Как скажешь, – змеедева улыбнулась, и хоть улыбка была слабой, тронувшей только губы на белом неподвижном лице, от нее дыхание сбилось и во рту сделалось кисло.
«Уж не совершила ли я самую большую ошибку?» – еще успела подумать Марья, а потом змеедева коснулась тонкими пальцами ее лба, и Марья повалилась на пол.
Зрение двоилось и расплывалось – или плавился и оплывал мир вокруг, обнажая под собой совершенно другой, знакомый до предательской дрожи в ослабших руках. Сквозь цветную мозаику на потолке медленно проступали очертания родного двора: солнце, запутавшееся в проводах, сухой и горячий воздух, пыль на губах.
Марья бежит едва ли не вприпрыжку, тащит за собой отца, радости в груди столько, что того и гляди из нее родится новое солнце, куда горячее и ярче того, что плоским раскаленным блином повисло над городом. Но ее солнце, конечно, будет добрым. Оно не будет изжаривать и иссушать, оно будет делиться теплом и радостью, свободой и крыльями за спиной и огромным простором впереди. Марья смеется, чувствуя себя небывало счастливой, и даже белый жар летнего дня не может ее утихомирить.
Ей еще нет и десяти. За плечами – третий класс и год в спортивной школе. Сегодня было показательное выступление, важное перед соревнованиями. И тренер похвалила ее скупо, чтоб не зазналась, конечно. Сама-то Марья слышала, что из группы ее назвали самой способной, подающей надежды – ого-го какие надежды!
Подслушивать, правда, нехорошо, но как иначе узнать столько приятных тайн, которыми взрослые не хотят делиться?
Марья оглядывается на отца, ловит его улыбку – довольную и гордую. Он бледен сегодня, на лбу крупными каплями выступила испарина, и, пока они идут сквозь парк, он отдыхает на каждой лавочке, закрыв глаза и запрокинув голову.
«Наверно, просто не выспался на неделе, – думает Марья. – У него ведь очень-очень важная работа, самая важная из всех, что только можно себе представить. Вот и неудивительно, что его в сон клонит и усталость не проходит». – И Марья сидит рядом с ним, только изредка дергая, спрашивая раз за разом:
– Я правда молодец? Правда-правда?
– Правда-правда, – соглашается он и гладит ее по распушившимся волосам.
У самого дома он покупает ей стаканчик мороженого с шоколадной глазурью и орехами. Марья щурится, глядя на солнце, шоколад тает, стоит коснуться его губами. Она предлагает мороженое отцу – хорошие дочери обязательно должны делиться! – но он только отмахивается, тебе, мол, больше хочется.
У самых дверей подъезда отец замирает, прислоняется к стене, словно борясь с дурнотой, и Марья тут же подскакивает, хватает его ладонь – горячую и влажную.
– Пап?
– Все хорошо, мелкая, – он улыбается через силу, – все хорошо.
Меньше чем через месяц он умирает.
Марья снова подслушивает – мать по телефону плачется кому-то: «Ему не следовало вообще вставать! Он же потратил столько сил… Если б не пошел тогда, может, мы успели… успели бы…» Стоит ей заметить Марью в темном коридоре, она замолкает, дышит часто и загнанно, сбивчиво прощается.
Марья убегает еще до того, как она повесит трубку.
Она ненавидит мороженое.
Воспоминание отдалилось и побледнело, выцвело на обратной стороне век. Марья тяжело подняла ресницы, бездумно смотрела, как тонкие пальцы змеедевы перебирали по воздуху над нею, словно нить свивали, и она тянулась от ее груди – то ослепительно-золотая, то почти черная, то лиловая. Давняя грызущая боль, злость на себя – что упросила отца идти на выступление, злость на других – что молчали, не сказали о его болезни, тонкой нитью убегали прочь. Она натянулась струной, и Марья выгнулась от короткой боли, когда змеедева со звоном оторвала ее от груди.