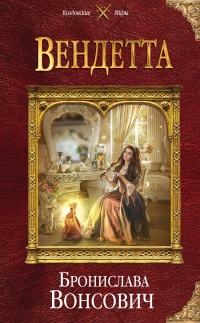Книга Театральная сказка - Игорь Малышев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я домой пойду, – сказала Снежка. – Но только не сегодня. Завтра, если можно. Мне надо в себя прийти.
– Вот видишь. Человеку надо в себя прийти.
– Нельзя ей к нам, – с непонятным упрямством повторил Мыш. – Нас выследят.
– Короче, так, – пошла упрямством на упрямство Ветка, – или Снежка идёт с нами, или мы с ней сейчас отправимся в какой-нибудь сквот или притон. Благо знаем их достаточно.
Мыш страдальчески вздохнул и отступил.
– А что это там горело? – спросила Снежана, успокаиваясь. – И зачем?
– Это Веткина идея, – буркнул Мыш.
– Мне так захотелось. Я почему-то подумала, что немного огня отрезвит тебя.
– Ты серьёзно? – недоверчиво спросила Снежка.
– Нет, конечно.
– А пахло чем?
– Апельсиновое эфирное масло. Отличное средство против суккубов, – легкомысленно ответила Ветка.
– Суккубов?
– Ага, – Ветка улыбнулась и показала подруге язык. – Да шучу я, шучу. Успокойся.
…
Голосившая в Скатертном переулке большегубая барышня, окружённая язычками пламени, через которые переступил бы и младенец, замолчала, как только огонь погас. Затем она во всей своей многомиллионной шубе опустилась на четвереньки и вгляделась в плитку перед собой. Поводила головой вправо-влево и медленно, прижимаясь к земле, став внезапно похожей то ли на ящерицу, то ли на собаку-ищейку, двинулась вперёд. Прохожие в страхе шарахались от сумасшедшей миллионерши, обнюхивающей тротуар и шаг за шагом продвигающейся в переулки.
Турникеты в метро перед ней, метущей мехами бурую слякоть, открылись сами собой и не закрывались потом целый час.
Дальше она, повергая в ужас пассажиров и оставляя клочья серебристого меха в пазах ступеней, по-паучьи спустилась по эскалатору на платформу. Не поднимаясь на ноги, обнюхала воздух. Уверенно выбрала одно из направлений и двинулась ко входу в тоннель, где висит, мигая воспалёнными оранжевыми точками, табло.
Шипя и поминутно смачивая длинным языком губы, Жаба добралась до края платформы и пошла по вертикальной стене. Потом, облизываясь и нюхая воздух, поднялась выше и, нарушая закон всемирного тяготения, поползла по потолку тоннеля.
Вскоре она исчезла в темноте, и оттуда раздался торжествующий то ли лай, то ли кваканье.
Когда на вершине горы что-то треснуло и вниз пошла каменная лавина, Мыш даже не успел испугаться.
Волна крупных и мелких камней завалила его с головой. Первой мыслью было, что он сейчас задохнётся, но вскоре мальчик понял, что, несмотря на то что каменная масса не позволяет сделать и четверти вдоха, он жив и даже не задыхается.
Ему было очень больно. Хотелось кричать, но воздуха в лёгких не было. Каменные обручи надёжно сковали его.
Ему стало очень страшно…
Ветка выбралась из-под каменного крошева, отряхнулась, откашлялась, протёрла глаза. Увидела пустынный склон горы, заваленный валунами, булыжниками и гравием, что оставил после себя камнепад.
– Мыш? – крикнула тревожно. – Мыш!
Девочка звала, и в голосе её с каждым новым воплем прибывало отчаяния.
– Мыш! Мыш! Мыш! – металась она по пустому склону. – Отзовись, пожалуйста!
Но вокруг была тишина.
Белый ворон покружил над ней, сел на валун. Широко открывая клюв, каркнул, словно накладывая заклятье или обрекая на что-то. Разбил крыльями горячий воздух и затерялся в небе.
Ветка подождала, надеясь, что ворон вернётся и приведёт с собой Диониса или мощных, как шагающие экскаваторы, сатиров. Но солнце трижды село и снова вышло из-за вершины обрушившей камнепад горы, а помощь так и не явилась.
И тогда Ветка приняла единственно возможное решение. Она подняла камень у себя из-под ног и понесла его на другую сторону горы, туда, куда лавина ни при каких обстоятельствах не могла утащить её друга.
Ей предстояло очистить от камней склон площадью в несколько футбольных полей. Это была единственная возможность найти Мыша в каменном хаосе.
Она могла унести не каждый камень и с сожалением оставляла на месте крупные валуны.
Особенно трудными были первые дни. Всё тело болело, будто через него пропускали электрический ток; сбитые ладони горели, губы покрылись чёрной коркой и потрескались.
Изредка отлучаясь с ненавистного склона, она нашла родник в зелёной лощинке у подножия горы. Вода его дрожала под светом солнца, пробивающегося сквозь ветви растущих вокруг ив.
Три раза в сутки – утром, в полдень и вечером – она приходила сюда и держала лицо и руки в ледяных струях, от которых уже через минуту ломило лоб и скулы, а потом снова шла на склон разгребать последствия лавины.
Время шло. В родник падали жёлтые листья и корабликами кружились на зеркале воды, потом края его схватил первый, ещё робкий, но уже злой ледок. Начались снегопады. Снежинки, крупные, пушистые, ложились и истаивали, похожие на рушащиеся дворцы.
Ветка мёрзла в нелепой одежде Гретель. Ботинки её от хождения по камням давно развалились, кожа на пятках обрела грубость и жёсткость велосипедной покрышки, ладони покрылись мозолями, похожими на наждачную бумагу. Мышцы стали крепкими, ей казалось, ещё немного, и она сможет разрывать камни голыми руками, словно перезрелые арбузы.
Склон горы покрыл слой снега толщиной с могильный холм, и работать стало ещё тяжелее.
К счастью, через четыре месяца пришла весна, солнце стало пригревать крепче, снег сошёл тысячью говорливых, будто первоклашки, ручьёв. По утрам ей больше не приходилось ломать лёд на роднике.
Прилетели птицы, ивы укутались фатой молодой листвы, пузатые жуки упали в траву.
Ветке стало почти легко. Нет, камни не стали легче, и носить их приходилось всё так же далеко, но на душе просветлело, словно на сердце присела большая бабочка с пёстрыми крыльями. Девочка носила камни и пела. Иногда даже танцевала, если позволяла тяжесть ноши.
Горячим маревом, миражом промелькнуло лето.
Снова полетели листья с ив, хрустнул первый лёд, и первая птица-снежинка опустилась на каменную пустошь.
Незаметно Ветка перестала считать годы и, словно слепая лошадь в упряжи, просто таскала камни, бездумно следуя хороводу природы.
Она почти забыла, зачем и почему это делает, и помнила лишь о том, что нельзя останавливаться, что любая остановка – предательство.
За долгие годы образ Мыша почти стёрся из её памяти, остался лишь горячий комочек в груди, который, наверное, и можно было назвать памятью или любовью.
Одежда истлела и опала, словно листья с деревьев над родником, а она всё работала и работала. Целыми днями от восхода до заката колючего горного солнца.