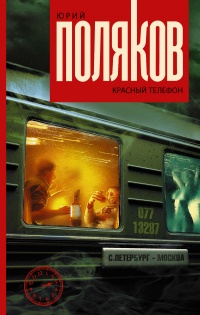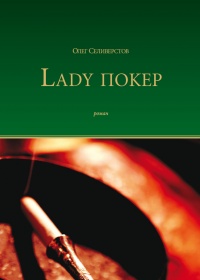Книга Долгое молчание - Этьен ван Херден
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ты должен вернуться, фельдкорнет, и принести мне одну из этих маленьких ручек. Это могущественное средство. А взамен я вылечу тебя и вырву эту рысь из твоих чресл. Я сниму твое вожделение к чернокожим женщинам.
Рыжебородый Писториус вынул одну маленькую ручку из свинцовой шкатулки, думая, что его никто не видит. Но Бабуля Сиела следила за ним.
Она задумалась, для кого же сангома собирается варить снадобье-мути из этих маленьких пальчиков? Это, должно быть, богатые люди, попавшие в большую беду. Мути из ребенка очень дорого стоит. А в какой порошок истолкут эти ногти? — гадала Бабуля Сиела. Чтобы оживить чью-то любовь? Чтобы принести забвение тому, кого мучит прошлое? Заново соблазнить любовника, возлежащего с другой женщиной? Вылечить рак?
Только один маленький пальчик сварила сангома для Рыжебородого вместе с сильнодействующими травами.
— Человеческая плоть. Ешь! — шипела сангома. — Великое мути…
До конца своих дней Рыжебородый нес на себе бремя этой вины, этой кражи, этого каннибализма. Он знал, что теперь ребенок никогда не обретет покоя в своей могиле, в концентрационном лагере на севере. Маленький мальчик будет вечно скитаться, потому что потерял свою ручку ради колдовства, потому что человек, ставший богатым и важным, живет с маленьким пальчиком в своем желудке, притворяясь невинным.
Потому что если ты съешь человеческую плоть, переварить ее ты не сможешь. Ты будешь носить ее внутри себя вечно — вот почему из нее получается такое сильнодействующее мути. До самой его смерти люди из Эденвилля называли его «Розовенький», и каждое утро своей жизни по дороге в контору адвоката он шел в обход и останавливался на какое-то время около монумента. Белые считали, что это знак уважения, но цветные знали: этот человек несет бремя страшной вины.
— Спасибо, — сказала Инджи, открывая дверцу «Мерседеса». По жаркому солнцу она добежала до Дростди, толкнула тяжелую парадную дверь и остановилась, запыхавшись, в похожей на пещеру гостиной с головами животных на стенах, мечами, тяжелой мебелью и книгами в кожаных переплетах.
Пахло корицей, слышались приглушенные голоса служанок из кухни. Пронзительно вскрикивал попугай, трещал передатчик генерала. Инджи помчалась в свою комнату.
— Пусть ангелы ведут нас! — услышала она крик генерала из кабинета.
Тогда Инджи закрыла голову подушкой и стала дожидаться, когда успокоится сердцебиение.
— Не забывай, зачем ты здесь, — шепнула она себе. — Ради скульптуры. Ради Спотыкающегося Водяного.
3
Джонти Джек стоял перед Спотыкающимся Водяным. Как будто я стою перед исчезнувшим отцом; словно напротив матери. Ах! Как много значит для меня эта скульптура! Отец, да, и мать тоже. А теперь Спотыкающийся Водяной стал насестом для ангела, он появляется, садится ему на голову и гадит, а я должен тщательно его вытирать и удивляться маленьким мышиным черепам, семенам, птичьим коготкам в помете мужчины в перьях, и все это надо убирать постепенно, и чистить, и натирать коровьей мочой, чтобы рыбак приобрел более глубокий бронзовый оттенок, чем даже под яростным солнцем.
Нет, водяной — безусловно, отец; только глянь, как он бежит; посмотри, как он разбегается, отвернувшись прочь, направляется в ту сторону, повернувшись спиной к Йерсоненду. Испарившийся Отец. Джонти сел на складной стул перед скульптурой.
— Да, гребаный папаша, — бормотал он иной раз скульптуре, а потом: — Скорбящая мама, — когда вдруг замечал что-то от Летти Писториус в мягких линиях тела, ищущего убежища, или в жестах, слишком неуверенных для этого мира. — Да, посмотри-ка сюда, одно бедро и плечо, эта мягкая, исполненная боли линия: маленькая Мать Отчаяния.
Это происходило, когда он напивался до слезливого отчаяния, погружался глубоко в стаканы — особенно если пил бренди и настой из конопли слишком быстро одно за другим, чтобы прогнать прочь тревогу за неоформившееся дерево у себя под руками; тогда Джонти садился и вот так смотрел на Спотыкающегося Водяного. Потом снова принимался трудиться над деревом. Через несколько дней после того, как он выбросил неудавшуюся скульптуру Инджи, Джонти положил новый кусок дерева на козлы. Должен возникнуть образ. Джонти крутил дерево, поднимал его за один конец и взвешивал в руках. Что кроется внутри? Сегодня это просто кусок дерева. Оно пахнет лесом, и ветром, и солнцем — и больше ничего. Он оборвал с дерева кору и с удовольствием скормил ее плите.
— Горите, вы, ублюдки, — говорил он, словно потребность вырезать что-нибудь из этого обрубка улетучится вместе с дымом, когда кора свернется в языках пламени.
С приездом Инджи для Джонти словно так многое вскрылось: все ее вопросы, и придирки, и наблюдение. Он все еще постоянно подглядывал за ней в телескоп. Каждое утро в одно и то же время она выходила из Дростди с рюкзачком за плечами, с удовольствием размахивая руками. Она привнесла сюда столь многое, о чем Йерсоненд давно забыл: живое любопытство, а не угрюмую назойливость йерсонендцев. Нет, это были простодушные вопросы, словно она застряла в лабиринте и вынуждена энергично спрашивать, чтобы отыскать выход.
Он смотрел, как она машет работникам, опиравшимся на лопаты, чтобы поглазеть ей вслед, и сплетничающим между собой о том, кто она такая, чего хочет и как далеко зайдет «с этим чокнутым Джонти Джеком из Кейв Горджа».
Джонти смотрел, как она идет вдоль по улице Капитана Вильяма Гёрда, как останавливается, чтобы поболтать с начальником станции — это уже вошло у нее в привычку. Обычно она скидывала рюкзачок со спины и стояла над ним, расставив ноги, с кружкой кофе, предложенной начальником. Джонти смотрел, как мужчина в черном кителе жестикулировал, разговаривая с Инджи, а она слушала и кивала Да, думал Джонти, история Инджи Фридландер и жителей Йерсоненда — это совсем разные истории. У нее есть сноровка, и эта уязвимость, и невинные вопросы…
Иногда она приводила Джонти в бешенство. И все равно он понимал, что ее глаза наполняются искренними слезами, если она слышит печальную историю о каком-нибудь йерсонендце, и смеется, когда рассказывают историю со счастливым концом. И, что особенно важно, ее настойчивость в покупке этой скульптуры очень мягкая и вежливая. Почти как бабочка на ладони, думал Джонти, она настаивает так ласково, так нежно.
И тут же начинал поносить себя за то, что думает о ней так романтично. Конечно, она и сама художница, он понимал это, но все же одна из тех, кто сбился с пути в большом городе, запутавшись в ответственности и управлении искусством. Он знал, как обстоят дела с музеями и художественными коллекциями в это время перемен и приспособления к новому правительству: бесконечные встречи и кипы документов, непрекращающиеся споры о политике, урезании бюджета и позитивных действиях; новая бюрократия, расхваливающая новые инициативы, но все это очень быстро становится таким же тягостным и сбивающим с толку, как и предыдущая толпа бумагомарателей.
Это было убийственным временем для художников, которые часто оказывались втянутыми во все это против своей воли. Инджи была одной из них — одной из нового поколения, только что из университета, исполненная решимости помочь изменениям в обществе. Да, печально думал Джонти, в эти дни никто не присоединяется к освободительному движению, просто становятся бумагомараками — вот и все, что осталось от борьбы.