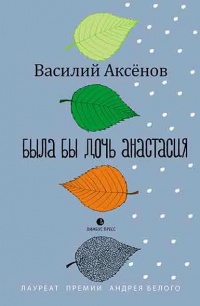Книга Малые святцы - Василий Аксёнов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Сигнализация-то только на передней…
— Ну дак и чё?
— Ну чё… Набрали водки и сгущёнки и направились к бичам, в доме, где почта-то была, живут которые… Колотуй их выследил и позвонил в милицию своим племянникам. Те приехали и увезли ребёнка и его подругу…
— Дак и следы ж везде… Зима.
— Следы, конечно.
— Да-а, — говорит отец. — Ребёночек… сгущёнки захотелось. Не пожалеют, дак посадят. Эрне-то будет как приятно.
— Плачет.
— Плачет… Чё теперь-то?.. Хоть заплачься.
Ровесник ребёнок нашему Павлику. Друзьями в детстве они были, играли вместе, когда Павлик проводил в Ялани лето.
— Ну и ещё там всякого, да я уже не помню.
— Дак чё ты… всё запоминай.
— Ага, вишь, память-то дырявая… Чё в детстве было, всё как будто помню, а чё вчера случилось, уж и вылетело.
Встала мама, пошла на кухню — гремит там посудой — обед готовит.
Ушёл к себе отец, лёг, слышно, на тахту — ждать будет, когда к столу его позовут.
От обеда я отказался, рассолу только ещё выпил. Поднялся всё же, натаскал в дом воды и дров, натаскал их и в подсобку, дал корове и телятам сена — не пожалела меня мама. В избу вернулся. «Волхва» собрался было почитать, да какое уж там чтение…
Так и промаялся весь день.
Не стал и ужинать.
Прочитал я маме всё же вечером:
«За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых…
…
И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
— Ой, страсти… страсти, — говорит мама. — Даже солнце-то — и то померкнет.
— На фронте, — говорит отец, — столько убитых повидал, но ни один из них — чё-то, не помню, чтоб воскрес. Да и в жизни чтоб… не помню. А тут у вас и Лазарь этот… да и Сам Он после тоже…
— Кто и воскрес, тебе-то кто покажет, — говорит мама.
— Ты почему така-то!.. Как заноза.
— Чё такое я сказала?.. Нам бы пальцы в раны всунуть.
— Раны… Видела бы ты когда их, раны эти… По-другому бы, поди, заговорила.
Встал отец, ушёл к себе — пол под ним заволновался.
Ушла скоро и мама. Громко молится — глухая. Прячу уши под подушку.
Смотрят с неба в окна звёзды — зоркие, имя, вижу, составляют: А-р-и-н-а — не разбить их — как алмазные.
Уснул я сном похмельным, нехорошим.
Ночь меня утюжила в постели.
9 марта. Прощёное воскресенье.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи.
Преподобного Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).
Заговенье на Великий пост.
Служба по Октоиху, Триоди и Минее.
«Величаем Тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя Твоея главы обретение».
«Адам из рая…»
После мученической смерти Иоанна Крестителя, тело его было погребено учениками его, а главу, после поругания над нею Иродиады, благочестивая Иоанна тайно положила в сосуд и погребла в горе Елеонской. Честная глава Предтечи хранится в Студийском Предтеченском монастыре. Часть её находится в Риме, в церкви святого Сильвестра. Части есть в Афонском монастыре святого Дионисия и в Угро-Валахийском монастыре Калуи.
Преподобный Еразм жил в ХII веке, подвизался в Киево-Печерской обители.
Иванов день.
«Обретенье, птица гнёзда обретает».
Появилось это совмещение-определение явно на русском православном, славянском ли, юге, к нашим, северным, местам оно неприменимо — очень уж ситуация со временем расходятся, не совпадают, — а потому, наверное, у нас и не бытует. Ни от кого я здесь его не слышал. Обретенне да и обретенне, и никаких ни птиц, ни гнёзд при этом не поминают. Самое малое, на полтора месяца, а то и на два позже здесь происходить такое будет — птицы примутся гнездиться. Лета жаркого, настоящего, не календарно, а климатически, тут только июль, а остальное время — долгая, затяжная, весна, переползающая на июнь, да осень ранняя, со снегом сразу, уже и в августе который может выпасть, ну и уж девять месяцевзимы, конечно, — невспотеешь. В конце июня телогрейку снимаешь, а в августе уже опять её натягиваешь. Зато красиво. Ну и — родина: приезжаешь — сердце млеет, уезжаешь — обмирает, при какой бы ни было погоде и в любое время года: у неё, у родины, нет плохого климата.
Ровно сорок четыре года назад хоронили в Москве самого главного начальника Империи — Йёсифа Сталина. При онемевшей и оцепеневшей, раздираемой от Калининграда до Владивостока, от Шпицбергена до Кушки траурными гудками — что могло, наверное, то и гудело — державе. Гудело и в самом её географическом центре — тут, в Ялани, в гараже «Полярной» МТС. Хоронили бывшего семинариста не по-христиански. Как барласа Тамерлана, предводителя гулямов. Для страны момент был значимый, конечно, — ушёл из неё в историю деспот-изьверьг, изначально коновод экспроприаторов. Многие, говорят, советские люди плакали, даже сознание теряли, мир, по представлению многих, со смертью бога-генералисимуса со дня на день должен был рухнуть — гаранта и охранителя его не стало. Но солнце не меркло, земля не сотряслась, конца света, слава Богу, не наступило. В Ялани вряд ли кто, узнав о смерти Сталина, заплакал, а вот радовались, по рассказам, многие. Пионервожатая в школе, Тоня Меньшикова, говорят, только рыдала и заразила этим некоторых пионеров. Комсомольцы набычились, но всё же сдерживались. Жизнь у людей в столице и в провинции неодинаковая, а потому и взгляды на неё, на жизнь, да и на смерть — как вообще, так и на свою собственную — разнятся.
Как относилась к Сталину мама, мне давно известно, и почему она к нему так относилась, понятно — были они раскулаченные, расказаченные, высланные, чудом в изгнании живыми сохранились все, кроме бабушки моей Анастасии Абросимовны, умершей от цинги в Заполярье, Царство ей Небесное, — нелегко любить гонителя, не всякий до такого поднимается, но он ещё и врагХристов идь, хоть и попущен в наше усмирение. Антихрист, кровопивец ли, других слов для него у неё не было и до сих пор пока не находится. «Если мы сами-то себя смирить не желаем, — говорит мама, — тогда Бог нас, гордых, смиряет. Вот как уж… может и так, власть на нас наслать худую, дак и грех её тогда хулить-то, только вот язык у нас любой вожжи длиннее, сам себе порой хозяин». А вот как к Сталину относился отец, коммунист-интернационалист, напоминавший мне раньше Макара Нагульного, я не знал, но полагал, что он боготворил вождя, осилившего Гитлера и снижавшего цены на соль и на спички. Однако нет вот. Давненько как-то, летом, мы, почти все, за исключением одной нашей сестры, Полины, живущей в Магадане, съехавшись в Ялань, сидели, пили сваренную мамой медовуху, отмечая быстро завершённый сенокос, и разговаривали. Зашла речь о сельском хозяйстве, и старший брат, Геннадий, сказал, что развалил его, хозяйство сельское, Хрущёв. Молчал отец, молчал и говорит вдруг: «Да не Хрущёв, а ещё Сталин». Слышать нам это от него, от отца, было неожиданно. «А вы кричали на фронте: за Сталина?» — спросил его я. «Не слышал, — ответил он. — Кто-то где-то, может, и кричал, но я не слышал… От страху-то, или от водки, чего там только и не закричишь». — «Ну, с ним войну мы всё же выиграли», — сказал наш средний брат, Николай. «Войну мы выиграли людским мясом, — сказал отец. — Народишко-то клали, не жалели, как скотину… Высотку, помню, одну брали. Немцы там, наверху, засели в укреплении. Двое. Простреливают всё кругом — не подступиться — косят. Оставили бы их, обошли — они бы с голоду там сами сдохли. Нет, надо взять, ты хоть тут тресни. Положили человек двести. А у нас винтовка на семерых одна. Я так очереди на неё и не дождался. Обе ноги мне немец прособачил. А взять вот надо было и отрапортовать… Кто-то из штаба орден получил, наверное, за это, а две сотни мужиков и парнишек за один час из одного места на тот свет дружно отправились… Чтобы за Сталина они кричали, я не слышал… Но и за Бога не кричал никто… если вы думаете это». А тут, помню, вышла из кухни мама, поставила нам на стол вновь наполненный медовухой глиняный кувшин и сказала: «Богу-то тихо молятся, а не кричат», — сказала и ушла. А он, отец, в догонку ей: «А ты бы лучше помолчала уж… Когда моча сама собой в штаны и в сапоги-то потечёт, дак помолилась б тихо ты, а я бы посмотрел тогда, послушал!» А мы, Истомины, редко, когда встречаясь и разговаривая, не спорим до ссоры, скоро, правда, и миримся, отходчивые, но тут всё обошлось — вышли тихо все на улицу, на Ялань ночную поглядели, Кемь журчащую послушали. «Зато при Сталине не воровали», — сказал Геннадий, когда уже мы в избу возвращались. «Кто мог, тот воровал, кому-то всё было дозволено, — сказал отец. — Это старух за колоски только садили. Хлопот на копейку, а шуму на рубль». Как это, такое отношение к главному Коммунисту мира, уживалось в отце, бескомпромиссно честном человеке и честном партийце? Как-то, под спудом вот, но уживалось. В партию-то он вступал не ради денег и карьеры, а на Курско-Орловской дуге — место и время для карьеристов не самое подходящее. Я до сих пор отца не понимаю, но нахожусь под сильным впечатлением от его прямоты. «Ты, Коля, — говорила ему раньше в шутку мама, — прямой, как оглобля. Чуть искривить бы, и цены бы тебе не было». — «Какой уж есть, — отвечал ей на это отец. — Вряд ли уже исправлюсь».