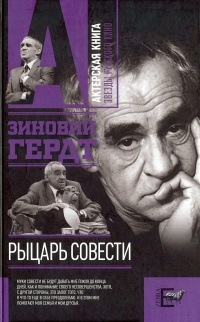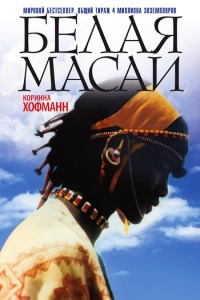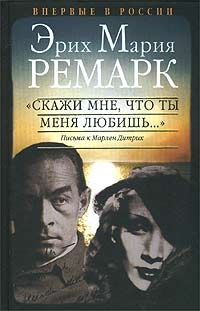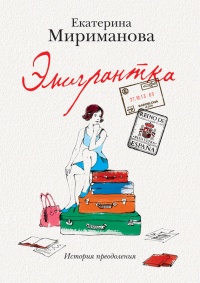Книга Прощай, грусть - Полина Осетинская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С Дебюсси, в общем, тоже удается более-менее находить общий язык. Хотя всякое между нами было: вспомнить только, как я в детстве измывалась над его «Островом радости» и прелюдиями.
А вот со Скрябиным все по-другому. В отношении к этому композитору нет равнодушных. Либо вы имеете дело с его страстными адептами, готовыми отстаивать его звуки и идеи до последнего вздоха, либо сталкиваетесь с полным его неприятием: «Чушь, напыщенный, претенциозный, нелепый и пустой набор звуков». Многие силятся понять, что же все-таки он имел в виду, но, так и не добившись результата, пеняют на исполнение – в связи с чем не утихают яростные споры, кто лучше всех интерпретирует Скрябина. Менее стойкие сразу списывают на музыку: «Да не хотел он ничего этим сказать – нечего говорить-то!»
Как бы там ни было, играть Скрябина и в самом деле неимоверно трудно. Не берясь сейчас рассуждать о его музыкальной системе и философии, приведу только один аргумент: между пиано PPP и PPPP у него огромная разница, и она очевидно и отчетливо слышна, имеет самостоятельное смысловое значение. А форте, каким бы ни было интенсивным и сокрушительным, никогда не должно быть «в рояль», а только «из рояля», один сплошной дух – это может быть и дух плоти, ярости, желания, нежности и боли, но ничего овеществленного. В общем, играть Скрябина – все равно что складывать мозаику из порывов ветра.
Как раз в пору моей ловли ветра в Петербург заехал с концертом давно живущий в Америке ученик Марины Вениаминовны – Михаил Яновицкий и не поленился дать мне несколько Scriabin-lessons. У Миши, изумительного пианиста, большой педагогический талант: его советы хоть и многократно усложнили задачи, все же очень мне помогли, – я, определенно, стала больше понимать Скрябина.
В ночь перед премьерой своего «Серебряного века», репетируя на сцене Большого зала Филармонии, я, как и всегда, проклинала себя, свою бездарность, выбранную профессию etc.
Никогда, никогда не бывает у меня такого, чтобы перед концертом на вопрос: «Ну, как идет?» я не ответила бы – «Ужасно», и в этом нет никакого кокетства. Мне всегда кажется, что я абсолютно не готова, ничего не выучено, не выверено, не сделано, что это будет один сплошной позор и ничего больше. Или глубже – все, что я хочу сказать, себя заранее исчерпало, а средства, при помощи которых я могла бы это сделать, не те или просто отказали, наступил кризис технологии.
Тут наяву видятся стандартные ночные кошмары, снящиеся мне еженедельно, с небольшими вариациями: надо выходить на сцену, а концертного платья нет. Я опаздываю, заблудившись в переходе, тоннеле, дворце, театре, ложах, балконах, горах, переулках, застряв в пробке. Надо выходить на сцену, публика уже час сидит, а я не помню, что должна играть. Надо выходить на сцену, оркестр ждет, я знаю только одну часть концерта, а играть надо три. И как апофеоз: надо выходить на сцену Мариинки танцевать Жизель, а танцевать я не умею.
В день концерта близким людям хорошо известно зверское и одновременно страдальческое выражение моего лица, если кто-нибудь вдруг вздумает обратиться с вопросом, не знаю ли я часом, куда подевалась сковородка, знаю ли я, как полезны для лица золотые нити, или пустится в долгие описания своей личной жизни. Перед концертом я превращаюсь в сейсмически опасный участок земли. А хождения туда-сюда по артистической со стиснутыми зубами и причитания: «Отчего я не стала домохозяйкой!» – друзья давно над этим шутят. Между собой – зная, что со мною в эти минуты шутки плохи.
Выход на сцену – испытание, даже если выходишь в двухтысячный раз. Беспримесное наслаждение должен испытывать слушатель, у нас же к удовольствию и счастью сценического существования приплюсовывается еще работа, которую мы обязаны сделать хорошо. Особенно – в свое время точно подметил Рихтер – работа отражается на лице. Для меня это предельная степень душевного стриптиза, за что я свое лицо, которое скрыть все эти выплески не в состоянии, не люблю.
В каждом зале новые люди, другая атмосфера, и надо всякий раз заново выстраивать цепочку взаимоотношений, искать это сцепление «я – публика», вдохнуть одной, а выдыхать уже вместе. Зал всегда разный, к нему нужно пристроиться, и это далеко не всегда происходит сразу же, иногда требуется отделение. Хотя у тебя, в сущности, нет права на притирку, а есть обязанность внятного высказывания – впервые пришедшему на твой концерт человеку не покажутся убедительными объяснения, что ты не справился с управлением: живот болел, нервы клокотали. Порой я думаю после концерта: вот сейчас бы еще раз все сначала, как по маслу пошло бы.
Садишься, напряжен. Вдыхаешь, концентрируешься, закрываешь глаза. Руки на клавиатуру – иногда они даже дрожат от волнения. Если удалось сразу избавиться от лишних мыслей вроде: банкетка скрипит, зачем этот господин в первом ряду с нотами уселся, какая следующая нота – и войти в музыку, чтобы уже не выходить до конца, есть шанс на установление скорейшего контакта с миром. Для меня показателем удачного выступления может служить либо отсутствие воспоминаний о том, как играла, либо когда удалось услышать себя со стороны, словно это и не ты вовсе, а какой-то незнакомый артист. Впрочем, Гилельс утверждал, что таких концертов у него за всю жизнь было лишь несколько.
Как только музыкант теряет связь с исполняемым, не живет в нем, это здесь же передается слушателю, который начинает позевывать, покрякивать, шуршать конфеткой, ронять номерок и кашлять. Однако в северных приморских городах кашлять будут, невзирая на отвлеченность или вовлеченность – климат.
То ли дело играть на южных широтах – никто не кашляет!
(Ладно бы кашель. Летом 2003-го я приехала в Петербург играть с Заслуженным коллективом республики и дирижером Яном Паскалем Тортелье Первый концерт Шопена. Остановилась у Марины Вениаминовны. За день до концерта пришла с репетиции – Марины дома не было – и как-то неправильно отключила сигнализацию. Через минуту приехали стражи порядка, взяли меня под белы руки и сопроводили в обезьянник, где сидели восемь гаст-арбайтеров. Вечер обещал быть приятным.
Вскоре Марина меня вызволила, однако на следующий день, вернувшись с репетиции, чтобы поспать перед концертом, я умудрилась опять что-то напортачить с сигнализацией. Очередная охрана прибыла через две минуты, но, увидев меня в ночной рубашке, усомнилась, что я грабитель. Однако порядок есть порядок: «Гражданка, пройдемте!» – «Пожалейте, говорю, публику, она же билеты все давно раскупила». К счастью, второй в жизни отмены концерта не случилось.)
Мой Скрябин понравился не всем: одна из рецензий называлась «Светская львица за роялем», где порицалась моя внешность, поведение и концертный костюм, факты биографии были перевраны, про музыку – один коротенький абзац. В общем, «быть знаменитым некрасиво» – а хорошо выглядеть на сцене уж совсем моветон.
Были и другие любопытные отзывы: отец разразился интервью, в котором утверждал, что мои жалкие попытки, кажется, впервые без него сыграть Скрябина и Дебюсси – детский лепет.
Вот оно.
– Олег Евгеньевич, что произошло между вами?
– На вечерней репетиции последнего концерта перед отъездом из СССР я дал ей пощечину. Просто не сдержался после большого волнения. Ведь мы в тот день много работали. А она, дуреха, обиделась на отца и учителя, который пожертвовал ей десять лет жизни, отказавшись от блестящей карьеры в кино.