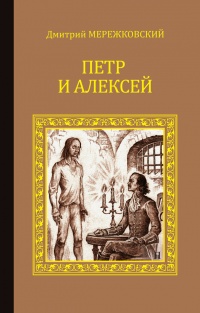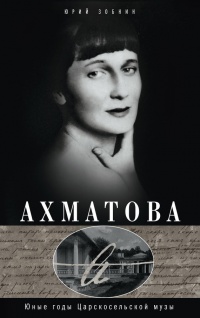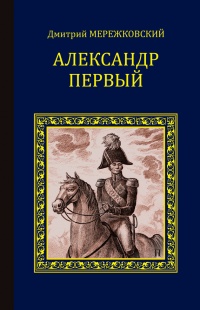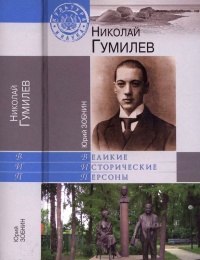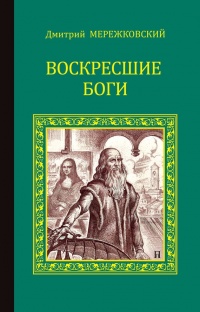Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сочувствие подавляющего большинства среди отечественной интеллигенции в этом конфликте оказывалось на стороне Толстого. После выхода «Определения…» Ясная Поляна была засыпана телеграммами и письмами в поддержку «великого старца». Столичная и провинциальная периодика пестрела двусмысленными фельетонами, в нелегальной прессе необыкновенную популярность приобрела тема «инквизиции». В карикатурах появились изображения обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева в мантии Торквемады, поджигающего костер, на котором стоял, прикрученный к столбу, Лев Николаевич в колпаке еретика. «Его имя было у всех на устах, – вспоминал П. П. Перцов, – все взоры были обращены на Ясную Поляну; присутствие Льва Толстого чувствовалось в духовной жизни страны ежеминутно». В этот год А. С. Суворин записывал в своем дневнике: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии».
История с «отлучением Толстого» приобрела совсем фантастический характер, когда в июле 1901 года писатель тяжело заболел и ввиду его возможной кончины вдруг встал вопрос: можно ли будет покойника… отпевать? Масла в огонь подлило открытое письмо петербургскому митрополиту Антонию от графини Софьи Андреевны Толстой: «Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или „непорядочного“, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели?» Ошеломленный Антоний осторожно напоминал о своеобразном отношении мужа Софьи Андреевны к «собранию самых грубых суеверий и колдовства»: «… Я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения?»
Многие связывали ухудшение здоровья Толстого с «отлучением», и по адресу его инициаторов, прежде всего – по адресу «Торквемады»-Победоносцева, в радикальной студенческой среде произносились вполне определенные угрозы. «Теперь в Москве головы помутились у студентов по случаю ожидаемой смерти Толстого, – сдержанно писал одному из своих московских корреспондентов Константин Петрович. – В таких обстоятельствах благоразумие требует не быть мне в Москве, где укрыться невозможно».
«Толстовский» 1901 год стал тяжелым испытанием для Мережковского, ибо, как несколько витиевато высказался автор «Л. Толстого и Достоевского» в письме председателю Неофилологического общества А. Н. Веселовскому, договариваясь об очередной «толстовской» лекции: «Мое отношение к Толстому, хотя и совершенно цензурное, но не враждебное, а скорее сочувственное». В переводе на общепонятный язык это означало, что Мережковский стоял в этом споре Толстого с Церковью на стороне Церкви, хотя и не испытывал к «еретику» никаких враждебных чувств и по-человечески сочувствовал ему. Если учесть, что обер-прокурор Святейшего Синода (второе лицо в государстве) как раз в это время собирался «укрываться» от особенно горячих поклонников «яснополянского старца» в петербургских тайных убежищах, – то положение Мережковского, который отнюдь не располагал возможностями Победоносцева для обеспечения безопасности, было, скажем так, тревожным.
Его трактат «Л. Толстой и Достоевский», который год публиковался на страницах «Мира искусства», уже после выхода первых частей вызывал стойкое раздражение в «консервативных» кругах читателей, считавших взгляды Мережковского на русскую классику недопустимо «вольными»:
«В „Мире искусства“ тянется бесконечная „критическая“ статья г. Мережковского о Льве Толстом и Достоевском, которая, как и все критические статьи г. Мережковского, представляет из себя характерную кашу, состоящую из меда и дегтя. На этот раз г. Мережковский, впрочем, превзошел самого себя. Говоря об „Анне Карениной“, г. Мережковский пытается определить место героине этого романа в ряду других созданий Толстого, для чего и сравнивает Анну Каренину с… лошадью Вронского „Фру-Фру“. Это чудовищное сравнение, это „сходство 'вечноженственного' в прелести Фру-Фру и Анны Карениной“ г. Мережковский доказывает следующим образом:
У Анны маленькая рука «с тонкими на конце пальцами», «энергическая» и нежная. Кости ног Фру-Фру «ниже колен показались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя с боку». У них обеих одинаковая стремительная легкость и верность, как бы окрыленность движений, и вместе с тем слишком страстный, напряженный и грозный, грозовой, оргийный избыток жизни…
Вронскому и при виде Фру-Фру, и при виде Анны «и страшно и весело»:
Фру-Фру, как женщина, любит власть господина своего и, как Анна, будет покорна этой страшной и сладостной власти даже до смерти, до последнего вздоха, до последнего взгляда. И над обеими совершится неизбежное злодеяние любви, вечная трагедия, детская игра смертоносного Эроса.
Хорошо пишут в «Мире искусства»!» (Северный курьер. 1900. № 299).
(Кстати, если оценивать художественный анализ произведений Толстого, сделанный Мережковским, с точки зрения современного литературоведения, «писали» в «Мире искусства» действительно «хорошо». До работ Мережковского литературный критик обычно «присваивал» тексту разбираемого автора некоторое «значение», опираясь на биографические документы, позволяющие сформулировать «взгляды писателя», и видел в его произведениях (точнее – в их «идеологически значимых» фрагментах) точно такие же «биографические свидетельства». Мережковский же обращается к «тексту как таковому», пытаясь извлечь его «значение» из элементов его эстетической структуры, анализируя стиль высказывания того же Толстого. В сущности, в «Л. Толстом и Достоевском» впервые в истории отечественного литературоведения были применены герменевтические методы.)
Однако «эстетические» претензии «честной русской мысли» к автору «исследования» уступили место претензиям «общественно-идеологическим» после того, как незадолго до выхода «Определения…», 6 февраля 1901 года, Мережковский прочел доклад «Отношение Льва Толстого к христианству» в Философском обществе при Петербургском университете.
Доклад, состоявшийся в зале Совета Петербургского университета, вызвал бурные прения, затянувшиеся за полночь, причем эмоции выступающих явно преобладали над разумом. В. В. Розанов писал в отклике на выступление Мережковского (Серия недоразумений // Новое время. 1901. № 8970), что «собственно о смысле доклада г. Мережковского догадался только последний оппонент, поднявшийся уже около 12 часов ночи». Этим «последним оппонентом» был С. Ф. Годлевский, который, ссылаясь на тексты Священного Писания и в особенности на «Послание к коринфянам» апостола Павла, доказывал, «что с философской точки зрения христианское миросозерцание – чистейший спиритуализм, выраженный в Новом Завете иносказательно, символически и догматически. Философскую сущность христианства и надлежало выяснить прежде всего докладчику [Мережковскому], тогда стало бы ясно, что граф Толстой, несмотря на кажущийся аскетизм некоторых своих положений, расходится с христианским учением главным образом в том, что он в основу своих этических воззрений полагает идею земного счастья и благополучия, к которому, по его мнению, должно привести всеобщее торжество любви и непротивления злу. Христианство же помышляет о смерти во Христе, о воскресении и о „вечной жизни“. Г. Мережковский ‹…› очень ошибается, утверждая, что „в учении Христа нет поглощающего преобладания духа над плотью“, в котором повинен будто бы граф Толстой, „а есть совершенное соединение, равновесие, гармония духа и плоти“». Против этого положения доклада и возражал С. Ф. Годлевский, ссылаясь на тексты Священного Писания и на изречения Христа о вере, двигающей горами, и о том, что земля и небеса исчезнут, а слова, то есть дух учения Спасителя, останутся (см.: Новое время. 1901. № 8972).