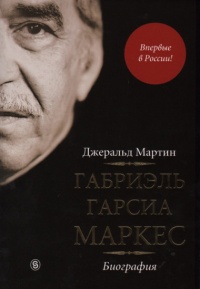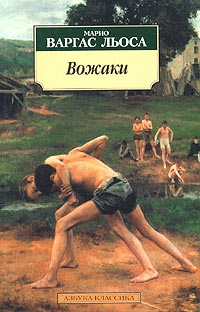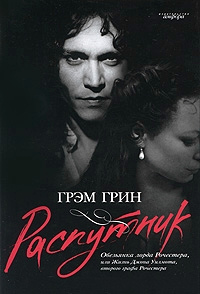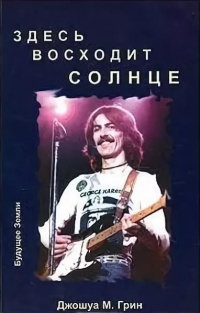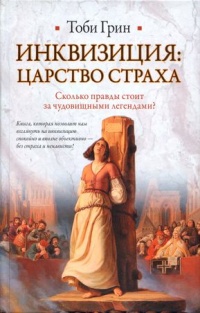Книга Путешествие без карты - Грэм Грин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С самого начала эти бывшие американские рабы — полукровки были идеалистами на американский лад. Когда они провозгласили республику, их Декларация независимости дышала тем же парадным холодом мрамора, что и американская. Шел 1847 год, а слова были заимствованы у восемнадцатого века; они родились в Вашингтоне — пышные, как эпитафия на гробнице богача. Хартия торжественно начиналась с перечня неотъемлемых прав на жизнь и свободу, но сразу же переходила на «право приобретать собственность, владеть и пользоваться ею, а также защищать ее». Сегодня «идеалы» все еще американские, но это уже американизм «Таммани — холла»[38]; потомки рабов пустились в политические махинации с увлечением завзятых картежников.
«Если вы желаете процветания своему народу, независимости правительству, почетного места среди флагов других наций нашей Одинокой Звезде, вы снова будете голосовать на выборах за президента Барклея…» — гласит предвыборное воззвание…
Казалось, в том краю есть что‑то нездоровое, какая‑то порча, которой не найдешь в других местах, болезнь же всегда вызывает жалость, даже болезни цивилизации: рекламы в небе над Лестер — сквер[39], «девицы» на Бонд — стрит, запах вареных овощей возле Тотгенхем — Корт — роуд, продавцы подержанных машин на Грэйт — Портленд — стрит[40].
Но иногда человека охватывает беспокойство, его тянет прочь из города, он согласен терпеть неудобства и лишения ради смутной надежды найти то, чему есть тысяча названий, — копи царя Соломона, «душа черного народа», а может быть, как выражается господин Гейзер в романе об Африке «Паломничество души», свое место во времени, обусловленное знанием не только сегодняшнего дня человечества, но и его прошлого, откуда мы все пришли. Есть, конечно, и такие люди, которые любят заглядывать вперед, — советское агентство «Интурист» снабжает их недорогими билетами в правдоподобное будущее, — но мое путешествие было иным.
Я вспоминаю его, как сон, полный какого‑то особого смысла: перед моими глазами проходят и старик, которого избивали дубинкой во дворе жалкого подобия тюрьмы в Тапи — Та, и скорчившиеся на дне ямы нагие вдовы в Тайлахуне, измазанные желтой глиной, и дьявол с деревянными зубами, который кружит в развевающемся плаще из пальмовых листьев между деревенскими хижинами.
Сегодня наш мир как‑то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому — то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ? Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга, тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути.
И все же меня немножко пугала перспектива вернуться в прошлое через Африку в полном одиночестве, и я очень благодарен своему двоюродному брату, согласившемуся сопровождать меня в этом путешествии, для которого нельзя было купить карт.
Оно началось в вагоне — ресторане поезда, уходившего в 6.05 с вокзала Юстон. Перед нами стояли тарелки с плохо прожаренной рыбой. Газетный заголовок сообщал еще одну версию о трупе, найденном в сундуке: покончил с собой безработный; а за окном, вдоль линии железной дороги, мокли под дождем полустанки, словно шеренга опущенных в воду факелов.
Огромная ливерпульская гостиница построена безвкусно, зато с подлинной страстью к великолепию и с пониманием, что такое удобства. Вероятно, здесь могло бы разместиться не меньше пассажиров, чем на трансатлантическом пароходе; я говорю о пассажирах, потому что никто не ездит в Ливерпуль развлечения ради поглядеть на маленькую тесную площадь, на неоновые рекламы, висящие так низко, что впору хоть рукой достать, на кино и бары, которые все тут закрываются в десять часов, и не позже. Но ливерпульская гостиница не похожа на другие; ее не назовешь ни модной, ни веселой, ни европейской, зато в длинных коридорах, где глохнет всякий шум, за высокими, как утесы, стенами жив дух постоялых дворов старой Англии: здесь не постесняешься заказать сдобную булочку или кружку пива, прислушиваясь к пароходным гудкам и разглядывая груды багажа в холле; уверен, что здесь сохранился еще и старомодный коридорный. Во всяком случае, там я понял Генри Джеймса, который, сойдя на берег, удивился, какой английской оказалась Англия, он даже заподозрил, что она приложила к этому немало стараний, желая ему угодить.
Несмотря на блеск никелированной посуды, повсюду проглядывала обычная английская бестолковщина; даже сдобная булочка и та была чудовищных, прямо‑таки тошнотворных размеров. Если гостиница выглядела нелепо, то это потому, что великолепие всегда выглядит немножко нелепо. Редко кому удается величественный жест. В тех немногих случаях, когда красота и великолепие совпадают, вы чувствуете себя как в театре или кино: это «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Меня всегда мучает противоречие: я убежден, что жизнь должна быть лучше, чем она есть, и в то же время верю, что всякое видимое благополучие непременно скрывает темную изнанку. Впрочем, в этом гигантском зале ливерпульской гостиницы, на широких просторах пушистого темного ковра вы были как дома; зал напоминал увеличенный в пятьдесят раз сельский трактир; где‑то в углу спал с открытым ртом проезжий коммерсант; вы бы не чувствовали себя здесь по — домашнему, если бы гостиница была построена по голливудским образцам.
На рейде Ливерпуля ничто не изменилось со дней Генри Джеймса: «Черные пароходы снуют в желтой воде Мерсея, а небо нависло над ними так низко, что они, кажется, вот — вот заденут его своими трубами». Даже краски остались прежними.
«Густая, насыщенная ветром мгла мягко серебрится, то и дело переходя в черноту».
Грузовой пароход стоял у самого устья Мерсея, покачиваясь на волнах Ирландского моря; холодный январский ветер разгуливал по палубе; пассажиры теснились внизу; смущенные и благодушные, они прощались с провожающими и откровенно скучали. А в иллюминаторе исчезала из глаз Англия — каменные ступени, просмоленный борт и бьющая в стекло серая волна.
На торговом судне у нас с двоюродным братом было пятеро спутников: двое служащих пароходной компании, коммивояжер машиностроительной фирмы, врач, который вез в Африку вакцину против желтой лихорадки, и женщина, ехавшая к мужу в Батерст. Все они, за исключением женщины и коммивояжера, были своими людьми на африканском берегу. У них были общие знакомые и одинаковые привычки, продиктованные одинаковыми условиями существования. Ежедневная порция хинина, москитные сетки на иллюминаторах — все это казалось им столь же естественным, как скатерть на обеденном столе.