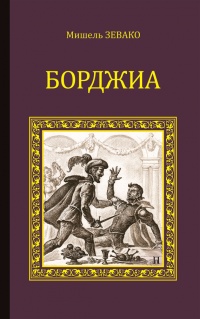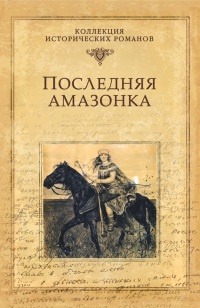Книга Улица Сервантеса - Хайме Манрике
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мечети тут же заполнились богобоязненными мусульманами. Богачи принялись делиться едой с бедняками. Горожане неустанно били поклоны в сторону Мекки и клялись, что совершат паломничество, как только смертоносная туча минует крепость. Повсюду на площадях алжирцы умоляли Аллаха о милосердии, обещая бросить пагубные привычки, строже соблюдать пост во время Рамадана, отказаться от вина, свинины и мальчиков и прекратить воровать и мошенничать.
Но и это не помогло. Однажды утром, когда в мечетях призвали к рассветному намазу, горожане вышли на улицы и не увидели неба. Город накрыл сплошной антрацитовый полог, который дрожал, извивался и шипел, словно рой разъяренных демонов. К полудню саранча обрушилась на крепость подобно ливню. Ее гудящая туча наполнила воздух так густо, что нельзя было разглядеть ничего дальше вытянутой руки. Зловредные твари проникли в дома, заполнили колодцы, набились в кухонные горшки, просочились в запертые сундуки и забивали глотки горожанам, так что те задыхались насмерть. Даже в тишине спальных покоев людям приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Иногда саранча набивалась в комнату так тесно, что алжирцы умирали от нехватки воздуха. Я плотно замотал нос, рот и уши платком и дышал через него.
В мечетях было не протолкнуться от кающихся мусульман, которые читали Коран до тех пор, пока у них не срывался голос.
– Аллах милосерден к своим детям, – повторял имам. – Аллах всеблаг. Аллах сострадает нашим мучениям.
Стихи из Корана раздавались повсюду – на площадях, в переулках, в пышных дворцах и нищенских лачугах. Но ничто не могло изгнать саранчу из города.
С каждым днем дьявольский свист звучал все пронзительнее. Люди плющили насекомых метлами, хватали первый попавшийся под руку предмет и давили их о стены, пол или булыжные мостовые – однако саранчи, казалось, становилось только больше. Я оставил надежду заснуть и часами в оцепенении скитался по городу, умоляя Господа явить мне милосердие и скорее воссоединить с Зораидой. Мы не могли спать, не могли есть; в городе не осталось ни одного места, где можно было бы укрыться от саранчи.
Когда алжирцы уже достигли пределов отчаяния и смирились со скорой гибелью, однажды поздней ночью на крепость налетели свирепые ветра, рожденные в глубинах Африки. Они завывали до самого рассвета. Выйдя утром на улицы, горожане не обнаружили и следа саранчи – ее подчистую сдуло в море. Упав на колени возле своих домов, они восславили Аллаха, благодаря Его за конец испытаний.
Однако в мире, в котором мы проснулись, не было красок: прежде зеленые холмы за городом уподобились пустыне или скалам; листья на деревьях и каждом мелком кустике, цветы и плоды в садах, дикие травы и растения, разводимые горожанами во внутренних двориках, – все это безвозвратно исчезло.
Тем не менее горожане не могли сдержать ликования. Они выжили. На несколько дней в крепости воцарился дух братства. Враги пожимали руки; незнакомцы обнимались и плакали на плече друг у друга, скорбя о недавних потерях; все распри были забыты, сменившись проявлениями доброты и участия. Те счастливцы, у которых оказывался кусок хлеба, с готовностью разламывали его пополам и делились с голодающими.
Но в городе было нечего пить. Огромные толпы потянулись из крепости в горы, чтобы набрать воды из орошающих долину ледяных источников. Тот, кто был слишком стар или слаб и не мог добраться хотя бы до моря, оказывался обречен на мучительную смерть от жажды. Люди начали пить оливковое масло и умирали, исходя жирным зеленым потом. Я выжил только потому, что не брезговал собственной мочой.
Еда тоже закончилась. Жучки и грызуны опустошили амбары богачей, а то, что они не подъели, сгнило. Обезумевшие матери поднимали к небесам тощих младенцев, умоляя Аллаха избавить от страданий хотя бы эти невинные души. Алжирцы искали в верблюжьем и ослином навозе непереваренные зерна и жадно их пожирали. Потом они съели и самих животных. С улиц исчезли кошки. Я видел, как матери продают на съедение собственных детей. Людоедство стало обычным делом. Я лично был свидетелем того, как людям отрубали головы, чтобы жаждущие могли напиться. Горожане потеряли человеческий облик. Их глазные впадины достигли размеров куриного яйца. Гиены и шакалы проникли в город и безнаказанно кормились мертвецами и умирающими. Дикие звери совсем потеряли страх перед людьми; трупов было так много, что пресыщенным львам даже не приходилось убивать.
Корабли Гасан-паши так и не вернулись с Мальты. Слух о том, что его флот разбит, а сам он взят в плен итальянцами, разнесся по крепости с той же быстротой, с какой пламя охватывает сухую растопку. Алжирцы боялись, что европейская армия со дня на день вторгнется в ослабленный город и захватит его без малейшего сопротивления.
Однажды утром стража острога объявила уцелевшим невольникам, что арнаут Мами готовит свои суда к отплытию в Константинополь. Пленников, попавших в Турцию, можно было считать потерянными для родины: оттуда еще не возвращался никто. Но во мне больше не осталось сил для борьбы. Я смирился со своей участью.
10 октября 1580 года – незадолго до того, как корабль Мами должен был навсегда увезти меня из города, в котором я познал величайшие страдания, – группа монахов, снарядивших фрегат сразу после нашествия саранчи, снова явилась в порт с выкупом. На этот раз Мами был счастлив отпустить меня: я превратился в дряхлого старика, негодного ни на какой труд и лишь доставляющего ему хлопоты. Арнаут с готовностью схватил предложенные деньги, и мои дни в алжирском плену подошли к концу.
«На земле нет счастья, равного вновь обретенной свободе», – написал я после возвращения в Испанию. Однако счастье, которое я обрел после пяти лет алжирского рабства, соседствовало с непреходящей скорбью. В моем сердце, полном самых горестных воспоминаний, больше не было места для земных радостей.
Ржавчина времени и немощи, разъевшая мою память, лишила те годы многих ярких красок; лица главных героев расплылись, приняв одно общее на всех выражение; забылся тембр их голосов, жесткость или мягкость взглядов, форма носов – или же отсутствие этих носов наряду с ушами, а порой и губами. Боль и тоска утратили остроту своих жал, а немногие счастливые моменты, пережитые мной в Алжире, стали казаться еще сладостнее, чем они были на самом деле.
Годы спустя, уже в Испании, я с трудом мог поверить, что эта часть моего прошлого действительно имела место. Теперь она казалась главой в рыцарском романе, автору которого нет дела до правдоподобия событий. Бывшие рабы, сумевшие вернуться на родину, рассказывали мне, что острог банья Бейлик стоит на том же месте и так же переполнен нашими менее везучими соотечественниками; что туда по-прежнему прибывают пленники, что они продолжают страдать и умирать в этой проклятой земле; что из двора до сих пор видно овальное окошко, в котором мне впервые явилась рука Зораиды, но ставни больше никогда не отворяются; а еще – что по городу бродит удивительная история о любви мавританской женщины и христианина.
Доходили до меня слухи и о том, что в нескольких лигах к западу от города, на крутом скалистом берегу, обращенный фасадом к лазурно-зеленому Средиземному морю, по-прежнему стоит дом Хаджи Мурата; и в саду, где развернулось последнее действие моей любовной трагедии, все так же можно увидеть плакучую иву, под которой отец Зораиды уничтожил то, что было для нас обоих дороже всего на свете.