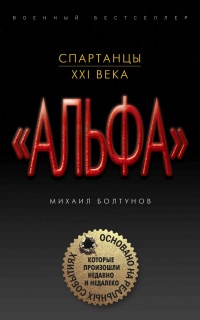Книга Супердвое: убойный фактор - Михаил Ишков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Одно слово, партизанщина!
Только высадили детвору из самолета, как начал кочевряжиться Заслонов! У меня голова раскалывается, а он в истерику – не полечу в тыл! Хочу с партизанами! Десантники его силком в самолет засунули. Я взял девочку из саней и вслед за ним. Поджигайло плюнул, выругался, приказал задраить люк. Кое-как взлетели, хорошо, что путь короткий, иначе я бы от холода окочурился. В Москве меня уже без сознания из Ли-2 вытаскивали. Что с той девочкой стало, с ребятишками, которых мы оставили на озере, не знаю. Ве-е-ечная па-а-амя-ять! Бом, бом!.. Бом, бом!..
Он вполне искренне пожаловался:
– А я вот живу! – Затем признался: – Мессинг лет тридцать назад напророчил, что как раз сегодня, 19 ноября, в День советской артиллерии, мне придет каюк, так что ждать осталось недолго, несколько часов. К тому же внук навещает, не забывает старика.
Я поперхнулся. Даже закусить забыл – жить ему, видите ли, осталось несколько часов! А Светочка хороша! Что же получается – наплевав на девичью честь, она родила в самом юном возрасте, а затем отправилась на аэродром прыгать с парашютом?
Вот это комсомолка!
Чудеса!
История, организовавшая эту ночную исповедь, лукаво подмигнула – это еще что!
Николай Михайлович горячо заверил меня:
– Светочка к ребенку никакого отношения не имеет. Ребенок был от Шееля. Петей назвали.
Я потерял дар речи.
Это был удивительный вечер – вечер знакомства с семейными тайнами, с заклятиями, оказавшимися не менее замысловатыми, чем история цельной страны. Удивительным было то, что эти тайны оказались неразрывно связаны с непознанным в человеческой психике, знатоком которого являлся Вольф Мессинг. Трущев наглядно продемонстрировал, как много он почерпнул у знаменитого экстрасенса, если сумел с ходу подцепить в моей голове восторг и рукопотирательское удивление, касавшиеся комсомолки Светы.
Но за всеми срамными домыслами, нервным хихиканьем, проистекающим из благоговения перед историей, – передо мной, за пределами истории, впервые за все время общения с Трущевым, въявь проступил абрис таинственного, неизвестного науке существа. Черты были стушеваны, подвижны, неокончены, однако вполне отчетливо складывались в подобие сфинкса.
Его лик, напоминавший кошачью морду, был ошеломляющ и неотразимо притягателен, как может быть притягателен идеал или вечный двигатель. В лапах он держал косу – ту самую, с которой разгуливает костлявая. Тайна этого существа была всем тайнам тайна. Это был лик вечности, а что такое история, как не ожившая, наполненная лицами и поступками вечность?
Какие житейские удовольствия, какие тончайшие наслаждения, психологические выверты или шокирующие извращения могут сравниться с радостью лицезрения бесконечной протяженности времени?!
Чего еще может желать человек?
Трущев вновь заголосил:
– А для меня в перспективе инфаркт… Может, сегодня и грянет. Вроде и водку не трескал, как некоторые. Я имею в виду, в оглушительных количествах, и на тебе!.. И слезы горькие прольются… Такая жизнь, брат, ждет меня. Бом, бом!.. Записываешь?
Я показал Николаю Михайловичу диктофон.
Он приказал:
– Антимонии вычеркни. Ни к чему…
Я не ожидал такого предательства и с надрывом в голосе воскликнул:
– Можно оставить?! – и ни с того ни с сего заявил: – Перестройка ведь!..
Николай Михайлович подцепил на вилку ворох квашеной капусты, зажевал и махнул вилкой.
– Оставляй. Мне все равно. Жаль, что редко удается свидеться с внуком. Далеко живет, за границей. Впрочем, об этом в свой черед, а в декабре сорок первого, перед самым Новым годом, я сбежал из госпиталя. Хотелось встретить Новый год и заодно отпраздновать награждение в домашней обстановке. Меня тогда представили к Красному Знамени, повысили в звании до капитана. Хотелось пройтись гоголем перед Светочкой…
Он помолчал, видно, припомнил что-то незаживающее, затем неожиданно помянул Сталина.
– Железный был человек… История его крепко выдрессировала. К окружавшим его товарищам по борьбе никаких дополнительных чувств, помимо деловых, не испытывал. Разве что к тем, кого называли сталинскими выдвиженцами, относился более заинтересованно. Петробыч любил ставить в тупик товарищей из Политбюро неожиданным решением кадровых вопросов.
Он опять взмахнул вилкой, на этот раз пустой.
– Впрочем, мне эта заумь по барабану. С точки зрения поиска согласия эти моменты несущественны – так говорил Заратустра. Согласен? Важен результат, а результат налицо. Или на лице. Спорить будешь?
Попробуй поспорь с ним!
Наворачивая квашеную капусту – вкуснейшую, должен признаться, закуску, – он подытожил.
– Победа, атомная бомба, Гагарин – это конечно, но и кулак был ого-го! А мы сами разве без кулаков? А ты говоришь, перестройка.
Он выпил, поставил рюмку, зажевал, затем подцепил ломоть жареной колбасы, положил его на хлеб и взялся за выдвиженцев.
– Таких было немного, но взлетали они вмиг и очень высоко. При этом падали чаще других и, как правило, разбивались насмерть. Вспомни Рычагова, Павлова, Вознесенского!.. [35]Но если выдвиженец не подводил, такому прощалось многое. Я побывал в их шкуре, я знаю. Так, например, случилось с молодым Закруткиным.