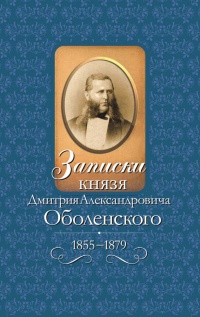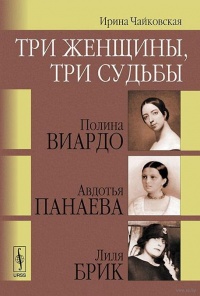Книга Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789-1848 - Иван Жиркевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В Вильне в это время квартировала новосформированная рота для гвардейской артиллерии под командой капитана Левашова,[302]у которого я и остановился, не решаясь пускаться далее в путь, пока не соберу сведений о местопребывании моей матери и прочей родни, почему и прожил там до половины июля 1814 г. Списавшись с зятем моим Фроловым и получив от него ответ, поспешил в Смоленск, а оттуда поехал с ним в Воронежскую губернию к двоюродным моим братьям, Сахаровым, у которых мать моя, убегая от французов, нашла себе приют. Невеста же моя в это время с матерью была в Тверской губернии.
Относительно пребывания нашего во Франции мне на память пришло еще одно обстоятельство. После нашего первого отступления от Труа Ермолов, бывши у Аракчеева, завел с ним разговор и коснулся отступления, осуждая оное.
– Что делать, Алексей Петрович, – сказал граф, – иначе быть не может.
– Да помилуйте, ваше сиятельство, сколько же у вас войска, чтобы можно было опасаться подаваться вперед! В одной австрийской армии через Рейн прошло пехоты 120 тысяч!
– Правда ваша, но теперь налицо в строю 18 тысяч.
– Где же прочие?
– Позади, на кантонир-квартирах; за недостатком обуви в стужу и грязь не могут делать похода!..
И вправду, во всю кампанию, до взятия Парижа, дрались лишь русские и пруссаки, иногда баварцы, виртембергцы и даже баденцы; но об австрийских войсках ни в одной реляции не упоминается, а между тем главнокомандующий всеми армиями был австрийский фельдмаршал князь Шварценберг, который более всех других настаивал, чтобы не идти на Париж, а возвратиться к Рейну…
Цель записок моих – не столько удержание в памяти случайностей моей жизни, сколько наставление в будущности сыну моему, потому там, где я находил или видел зло, я описываю оное подробнее другого. Таким образом скажу, что зять мой, Фролов, бывши в 1813 г. смотрителем Шкловского военного госпиталя, нажил 40 тыс. рублей ассигнациями. Я пожелал знать от самого Фролова, как он накопил такую значительную сумму и в такое короткое время, тем более что по характеру его я знал его всегда за самого человеколюбивого и притом слабого, близко к трусости наклонного чиновника. Основанием его фортуны была стачка с медиком, комиссаром, священником и с ревизорами госпиталя. Разумеется, что при этом положении он должен был с ними делиться и многих угощать. Усиленное показание высшего разряда порций, задержание выключки своевременно умерших, погребение сих последних без гробов, употребляя при выносе их один и тот же гроб под всех, наконец, искусственное поддержание справочных цен на припасы, а через это стачка с подрядчиками – вот источники, из которых собиралось золото, а приезжавшие ревизоры, получая свою долю, весьма значительную, находили все отлично, и госпитальные чиновники кроме прибыли получали еще награды.
Прибыв в Смоленск, я узнал, что семейство Лаптевых из Ярославской губернии перебралось в Тверскую, к родственнице матери моей невесты, Шишкиной, рожденной Талызиной, по первому мужу Гедеоновой. (Первый муж ее был родной брат Е. Я.) Родной мой край представлял все еще только одно пожарное пепелище. В имении матушки, Малосельи, более половины крестьян перемерло, осталось всего лишь 16 душ, и Фролов, к которому от сестры перешло это имение, по крайней мере озаботился продовольствием мужикам и обсевом их и своих полей. В Новинцах же, дер. Лаптевой, все стояло вверх дном. Поля не засеяны, крестьяне не призрены, и что всего чувствительнее для имения – отсутствие хозяев, тем более что в самое это время выдавалось пособие от правительства. Как известно, что все подобные распоряжения вначале как-то идут живее и удовлетворительнее для нуждающихся, а впоследствии, по прошествии некоторого времени, участие и рвение остывают, и вот явное доказательство тому: матушка, не будучи налицо, по возвращении своем ничего не получила уже на свою долю.
В Смоленске я пробыл только два дня и поехал с Фроловым прямо в Елец, а оттуда в Задонскую деревню Сергея Семеновича Сахарова. У него в это время жила моя мать. Семейство Сахарова, с которым я до сего времени не только не был знаком, но даже не знал о его существовании, состояло из трех братьев: Петра – старого холостяка, Ивана – женатого, имевшего деревню в Елецком уезде, и Семена – тоже немолодого холостяка, но еще более устарелого от несчастия, ибо он был разжалован в матросы, но потом прощен, и двух сестер: Матрены – девицы лет 35-ти, жившей с Семеном Сахаровым, и Марьи, по первому мужу Кожиной, а в это время Туровской. Мать Сахаровых была родная сестра моей матери, а отец их при императрице Екатерине II служил при дворе и был один из ее камердинеров. Сахаровы обворожили меня своим приемом, да в это время иначе и быть не могло. В таком краю, где молодые мужчины за войной совершенно исчезли, появление военного, да к тому же молодого гвардейского офицера, составляло происшествие, и я в кругу моих родных, переезжая из одного дома в другой, не замечал, как летели дни…
С матерью и с Фроловыми мы отправились в исходе октября 1814 г., в Смоленск, куда и прибыли 3 ноября. Здесь я узнал, что семейство Лаптевых все возвратилось и живет в деревне. Разумеется, что я сейчас же поспешил туда, но как меня поразил вид моей невесты! Она предшествовавшую зиму во время краткого переезда из Ярославской губернии в Смоленск, отъехавши из города в деревню, на Днепре, с санями провалилась под лед и спаслась каким-то чудом; но с того времени открылось у нее сильное кровохаркание, так что при малейшем нравственном потрясении кровь немедленно вырывалась горлом чашки по две; да к этому у нее была корь, от которой выпали все волосы на голове. Тем не менее я стал настаивать на моем искательстве…
Теперь надо представить себе положение нас обоих и наших семейств. У моей матери в обрез ровно ничего! У Лаптевых, кроме той же скромности достатка, большой долг, сделанный для прокормления крестьян и огромной дворни. На мне один старый мундир, два фрака, статский сюртук, без жалованья и даже без видов содержать себя! Я не знаю право, что я думал тогда, но упрямство мое было так велико, что я настаивал на свадьбе. Иногда мне казалось, что я будто бы добиваюсь, чтобы мне отказали, но сердечная привязанность и внимание ко мне моей невесты не только не ослабели, но с каждым днем все больше усиливались, и чем более я размышлял о бедственном ее положении, тем дороже и милее становилась она мне. Наконец в апреле 1815 г., на Вербной неделе, когда я стал настоятельно просить Е. Я. решить нашу участь, она, при всей ангельской кротости вынуждена была сказать мне, что я сошел с ума и что я сам не знаю, чего желаю и чего требую; я с сердцем уехал и сватовство свое считал совсем расстроенным.
Но в день Св. Пасхи я получил письмо от А. И., в котором она извещала, что матушка решилась благословить нас и что она сама будет писать к моей матери; и действительно, Е. Я., извещая мою мать о моем настоянии, чистосердечно объяснила свое крайнее положение, просила, если можно, убедить меня обождать, пока я себя не пристрою, но если это покажется недействительным, то она, со своей стороны, не будет более нам препятствовать. Матушка, зная хорошо мой характер, передала мне только письмо, не говоря ни слова, и 2 мая 1815 г. я сделался мужем А. И.