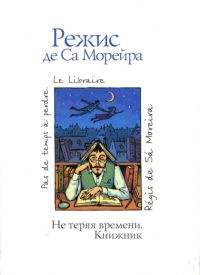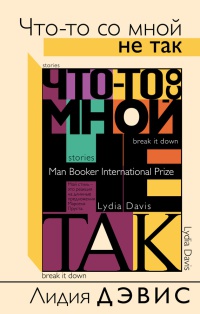Книга Иные измерения - Владимир Файнберг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…Все та же щербатая мраморная лестница, круто ведущая вниз, в подвал одного из впритык стоящих средневековых зданий. Там, в двухкомнатной квартирке без окон, с газом и электричеством, все та же бабушка и все та же мама. Все тот же телевизор. Живут на пенсию погибшего прошлой осенью отца-железнодорожника.
Отец считал, что Симона после окончания восьмилетней школы должна учиться в профессиональном училище на швею. И мама с бабушкой тоже хотят, чтобы Симона сидела за швейной машинкой в мастерской или на фабрике по пошиву одежды. Пока не выйдет замуж.
Но у неё совсем другая цель, о которой страшно даже сказать родным. Только священнику, толстому дону Франческо, призналась во время исповеди. Тот улыбнулся, вздохнул, будто такой в прошлом была и его мечта…
Симону всегда тянуло к мальчишкам. С детства увязывалась за ними. Особенно когда они гоняли в футбол на окружённом кипарисами пустыре за кастелло — старинной цитаделью, построенной крестоносцами. Иногда за недостатком игроков ей даже разрешали постоять в воротах. Казалось, это было совсем недавно, когда она, тоненькая, с тяжёлой копной волос за плечами, устав без толку торчать между двух брошенных на землю ранцев, выбежала из ворот, долго путалась в ногах у отгоняющих её подростков, которые не давали хоть раз ударить по мячу, и всё-таки на миг заполучила его да так наподдала ногой, что тот влетел в ворота соперников.
И тогда вся команда стала подбегать к ней, поздравлять, хлопать по ладони — как это бывает, когда сражаются настоящие футболисты «Ромы» или «Милана». Даже вратарь, пропустивший гол, показал ей большой палец.
Это были самые счастливые минуты во всей её жизни.
А мечта, сумасшедшая, почти наверняка несбыточная, заключается в том, что по достижении восемнадцати лет Симона хочет поехать в Венецию и поступить учиться в «Академию навале» — на штурмана. Она видела в телепрограмме новостей выпускников этой академии, моряков, в такой красивой форме — дух захватило! Будут бороздить на кораблях итальянского флота моря и океаны…
Только десятый час вечера, а словно глубокая ночь. Словно она одна не спит в городе.
Симона не знает о том, что сотням тысяч людей во многих странах вот так же некуда деться, некуда пойти. При этом она чувствует, что только в сказках или слащавых кинофильмах сбывается невозможное.
Укрытая от дождя аркой, Симона стоит под сухим зонтом. Лицо её мокро от слез.
За окнами вагона переполненной пассажирами нетопленой электрички умирал короткий декабрьский день.
Подвыпившая компания напротив нас резалась в подкидного дурака, где-то сзади сипела с переливами гармошка и кто-то пел: «На мою на могилку уж никто не придёт. Только раннею весною соловей пропоёт».
Христо, сидевший справа от меня, то с любопытством оглядывался, то пытался разглядеть сквозь собственное отражение в окне огоньки посёлков, заснеженные перелески.
Все сильнее терзало меня чувство стыда. За эту песню, тоскливую, как большинство русских песен, за этих картёжников, шлёпающих по водружённому на коленях чемоданчику ободранными картами, за этих продрогших старушек, как и мы, наверняка направлявшихся в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру.
Из постоянно открывавшейся двери тамбура дуло лютым холодом, табачным дымом. Голос гармониста снова и снова выводил: «Позабыт, позаброшен…»
Может быть, в подмосковных электричках концентрируется вся наша безнадёга.
— Скоро? — спросил Христо.
— Минут через двадцать, — ответил я. — Замёрз? Обычно в электричках топят. Просто не повезло.
— Повезло! Знаешь, я был в Париже, в Колумбии. Нигде не было так интересно! — Одной рукой тепло обнял меня за плечи, другой разгладил свои чёрные усища, свисающие по обе стороны подбородка.
«Ой умру я, умру я, ой похоронят меня. И никто не узнает, где могилка моя…»
Со мной рядом был один из самых первых в моей жизни иностранцев. Болгарский художник. Что я мог ему предложить в ответ на просьбу показать настоящую Россию?
И вот поехали в Троице-Сергиеву лавру.
Мир электрички был настолько несхож с тем миром, откуда возник Христо, что чем сильней терзал меня стыд, тем с большей отчётливостью вспоминался маленький, уютный, как бонбоньерка, номер гостиницы «Метрополь». Несколько дней назад туда привезла меня Юлия, чтобы перед отъездом на Кипр познакомить со своей подругой Искрой и её мужем Чавдаром.
Юлия была на шесть лет старше меня. Боюсь, я любил не столько эту яркую волевую женщину, сколько её легендарное прошлое героини болгарского сопротивления фашистам.
Все они были старше меня. И забежавший из соседнего номера на чашку кофе чех Иржи со странной фамилией Пеликан. Этот Иржи оказался председателем Всемирной организации молодёжи и студентов. Он принёс ананас, который я впервые увидел живьём, и несколько плиток шоколада.
Как равный, сидел я за круглым столом между Искрой и Чавдаром. Они были аспирантами Института экономики имени Плеханова. На родине их ждало большое будущее. Меня угощали кофе, вином, болгарским рахат-лукумом, тем же ананасом. Подносили раскрытую кожаную коробку с чудесными сигаретами «Дипломат». И всё-таки безотчётное чувство настороженности нарастало во мне.
В номере воняло опасностью.
Они то по-русски, то по-болгарски обсуждали свои дела, говорили о том, что Иржи Пеликан улетает на конгресс молодёжи в Вену, о Комитете в защиту мира, об Илье Эренбурге, опубликовавшем недавно повесть «Оттепель».
Юлия сказала, что повесть кажется ей слабой в художественном отношении. Попросила, чтобы я прочёл свои последние стихи, ради чего, собственно, и был приведён. Я подметил брошенный на неё укоризненный взгляд Чавдара.
Он вдруг отодвинулся со стулом, приподнял свисающий со стола край тяжёлой скатерти, жестом увлёк меня на что-то взглянуть.
На массивной ножке стола я увидел круглое отверстие микрофона, забранное металлической решеточкой…
— Коммунизм имеет право защищаться от агентов иностранных разведок! — громко заявил Иржи Пеликан.
Потом полночной зимней Москвой я провожал Юлию на Малую Бронную, где она жила в общежитии аспирантов театрального вуза.
— Когда мы с Искрой были связными подпольного штаба партизан, — сказала Юлия, — с нами был совсем молодой парень, мальчишка. Теперь этот Христо — как ты. Художник. Его карикатуры любит вся Болгария. Он первый раз в Советском Союзе. Завтра должен вернуться из творческой командировки в Караганду. Рисовал под землёй портреты шахтёров. Перед самолётом в Софию ему останется два дня. Примешь его у себя?
— Что ж… Раскладушка найдётся.
Сама Юлия улетала на Кипр, в Никозию, ставить в каком-то оставшемся с античных времён амфитеатре пьесу Брехта «Кавказский меловой круг».
Они все были включены в запредельную для меня жизнь. Всё время куда-то уезжали, откуда-то приезжали.