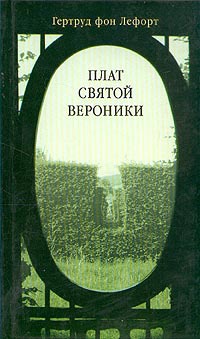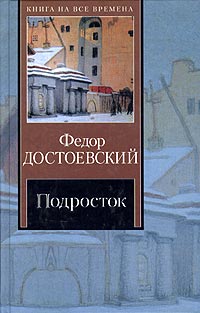Книга Венок ангелов - Гертруд фон Лефорт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я почувствовала, как в нее проникло что-то удивительное, что-то божественно-благодатное: я теперь любила Энцио уже не вопреки его богоотступничеству – я впервые любила в нем богоотступника. Я любила его уже не только своей прежней любовью, но и любовью Христа, и именно эта любовь, которую он отверг, объявив ее несовместимой с нашим союзом, стала спасением нашего союза! Только с ней, только опираясь на нее, я могла отважиться на то, на что уже не решалась моя собственная любовь. С этой мыслью я и уснула на рассвете.
Прошло несколько дней безмолвного, напряженного ожидания, которое обычно отделяет большие решения от их последствий. Ибо, хотя я и была исполнена решимости никогда не расставаться с Энцио, между нами по-прежнему стояли, с одной стороны, его ужасное требование брачного союза вне Бога, с другой – моя просьба посвятить этот союз Богу. У нас оставался один-единственный путь. Это был тяжелый, болезненный и опасный, но совершенно ясный путь – отложить нашу свадьбу на неопределенное время, оставаясь женихом и невестой. Я бы ждала его столько, сколько потребуется, хоть до конца жизни! Я бы ждала его, как Любовь Божья, которая тоже ждет нас до конца нашей жизни!
Осознав и обдумав все это как следует, я хотела сообщить о своем решении Энцио, и как можно скорее, потому что день свадьбы уже был назначен. Но мысль о предстоящем объяснении причиняла мне невыразимую муку, – она казалась почти невыносимой, ведь я всеми фибрами души призывала наше скорое соединение! Всякий раз, когда я в своей комнате открывала красивый старинный шкаф красного дерева, где, заботливо прикрытое тюлем, висело мое «святое платьице», которое я пожелала надеть в день свадьбы, вопреки всем фантазиям Зайдэ на тему роскошных подвенечных платьев с длинными шлейфами, на глаза мои наворачивались слезы. Я вновь и вновь откладывала наше объяснение, вернее, должна была откладывать его, так как Энцио не давал мне ни малейшей возможности осуществить задуманное. После нашей размолвки он не показывался ни в доме моего опекуна, ни в его аудитории – жест, который в равной мере мог быть адресован как профессору, так и мне. Если причиной его отсутствия была я, то он, должно быть, тоже мучительно вынашивает решения, подобные моему, говорила я себе. А может, он ждет моих решений? Может, он по-рыцарски предоставляет право первого шага мне? У меня было такое ощущение, тем более что и все остальные, похоже, ждали от меня каких-то шагов. Я чувствовала это совершенно отчетливо по тому молчанию, с которым в доме моего опекуна обходили ту роковую вечернюю дискуссию на террасе. Профессор ни единым словом не упоминал о своем столкновении с Энцио. Но и не искал разговора со мной. Может быть, оттого, что он из деликатности не решался повторить горький совет, данный мне накануне случившегося? Или он хотел своим молчанием показать, что этот совет, хоть и высказанный в чрезвычайном волнении, все же остается его последним словом в разговоре о моей судьбе? А может, он в своем так хорошо знакомом мне мгновенном ясновидении понял, что я все равно не последую его совету? Во всяком случае, он молчал. Но самым удивительным было то, что даже Зайдэ несколько дней подряд удавалось подавлять в себе желание высказаться о происшедшем, хотя она, по моим наблюдениям, с нетерпением ждала от меня каких-то шагов. И в конце концов, разумеется, первой нарушила молчание.
Когда я как-то вечером вошла в столовую, она оказалась пустой. На террасе тоже не был накрыт стол. Горничная в ослепительно белой, обшитой рюшами наколке сообщила, что госпожа велела сегодня подавать ужин в салоне. Я отправилась в салон. Зайдэ, которая уже ждала меня, сказала, что у ее мужа сегодня встреча с однокашниками, так что мы ужинаем одни, так сказать, в тесном, уютном одиночестве. Поэтому она и распорядилась в виде исключения сервировать стол без излишеств и подать только холодные закуски, бутерброды и чай, чтоб всласть поболтать без любопытных ушей прислуги. Усадив меня рядом с собой на зеленый бидермейеровский диван и накладывая мне на тарелку закуски, она сразу же заговорила о злополучном вечере. Ее страшно огорчила несдержанность Энцио, сообщила она. Но она прекрасно понимает, что стало причиной такого поведения. Это ее муж невольно спровоцировал его. Ах, как она жалеет о том, что он все же вмешался в мои планы, связанные со свадьбой! С тех пор как он поговорил с Энцио, тот заметно переменился. Вероятно, он представил ему брак со мной настолько нереальным с точки зрения существующих между нами религиозных противоречий, что тот совершенно потерял самообладание. И теперь все нужно как-то уладить, ведь не может же это продолжаться вечно – то, что Энцио совершенно не показывается на глаза. Я чувствовала, что она собирается предложить мне помощь или хотя бы совет, и потому поспешила сказать ей о своем намерении поговорить с Энцио.
– А сможете ли вы выбрать верный тон для этого разговора, моя маленькая Вероника? – с сомнением покачала она головой, лукаво улыбаясь.
Я знала, что какой бы тон я ни выбрала, он пойдет вразрез с ее планами, ведь она страстно желала нашей скорейшей свадьбы. И я промолчала.
Она терпеливо ждала. Наконец она вдруг немного скривила свой большой, чарующе красивый рот и сказала:
– Ах, Вероника, до чего же у вас тяжелый… тяжелые косы!..
Я поняла, что она имеет в виду мой своевольный характер. Но что я могла поделать? Я решила прибегнуть к хитрости и спрятаться за ее шутливо-ироничным тоном. Я с улыбкой вынула заколку из волос, и косы упали мне на плечи.
– А так лучше? – спросила я.
Ей против воли пришлось рассмеяться.
– Нет, напротив, – возразила она. – Теперь ваша головка стала такой маленькой, что вы без труда можете ускользнуть от меня через любую лазейку! А ведь я желаю вам добра!
Я поспешила уверить ее, что нисколько не сомневаюсь в этом (зеркальце мое вновь по-христиански терпеливо томилось за зеркалом). При этом я примирительно погладила складки ее светлого летнего платья, которое она, судя по всему, особенно любила, потому что оно было ей очень к лицу.
– Какой прекрасный шелк!.. – произнесла я машинально, не отдавая себе отчета в двусмысленности своих слов. Но она мгновенно почувствовала эту двусмысленность.
– А какие прекрасные волосы! – подхватила она, взяв мою косу своей ухоженной, чтобы не сказать нежно выхоленной рукой. – Эти густые, тяжелые волосы! С такими волосами можно многого добиться!
Она вдруг приблизила ко мне лицо и зашептала в ухо:
– Вы хоть понимаете, какой властью обладаете над своим другом, моя маленькая Вероника? Куйте железо, пока оно горячо! А оно горячо, очень горячо! Я видела, как он смотрел на вас в тот злосчастный вечер… Воспользуйтесь же этой властью! Воспользуйтесь ею!
Я не сразу поняла, что она имеет в виду.
– Но я не хочу пользоваться никакой властью! – воскликнула я. – Я не хочу ковать никакое железо! Я…
С таким трудом сотканная нить христианского терпения, на которой висело мое спрятанное зеркальце, лопнула: на несколько секунд я превратилась в страстное дитя своей бабушки, чей темперамент прорывался во мне поистине триумфальными каскадами.