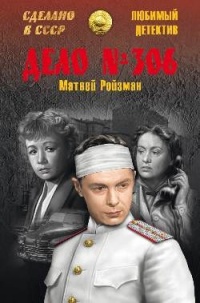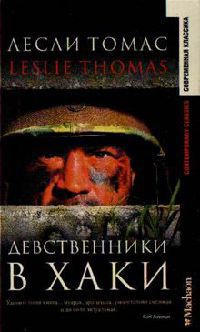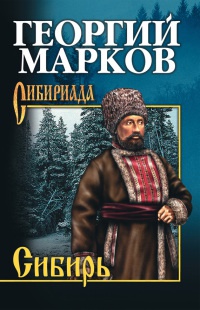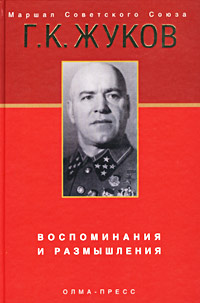Книга Гепард - Джузеппе Томази ди Лампедуза
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы правы, дон Пьетрино, сто раз правы. Кто спорит? Но если они не будут обирать вас и других таких же горемык, откуда у них возьмутся деньги на то, чтобы воевать с Папой и прибирать к рукам собственность Святого престола?
Неяркий свет лампы дрожал от ветра, проникавшего сквозь щели в массивных ставнях. Разговор затягивался. Падре Пирроне рассуждал уже о неизбежной в будущем конфискации церковного достояния, и прощай тогда мягкая власть здешнего аббатства, прощай похлебка, в которой никому не отказывали суровыми зимами; когда же младший Скиро опрометчиво высказал предположение, что некоторые бедные крестьяне получат собственные наделы, иезуит смерил его презрительным взглядом:
— Вот увидите, дон Антонио, вот увидите, все скупит мэр. Часть заплатит, а остальные денежки — поминай как звали. Такое уже было в Пьемонте.
Кончилось тем, что братья Скиро и местный священник ушли еще более хмурые, чем пришли: поводов для ворчания им должно было хватить месяца на два. Остался только дон Пьетрино, который решил не спать в эту ночь: было новолуние, и он собирался в горы за розмарином, даже фонарь принес с собой, чтобы сразу отправиться на промысел.
— Ты, падре, живешь среди господ. А что они-то говорят про эту свистопляску? Что говорит горячий и гордый князь Салина, как смотрит на все это со своей высоты?
Этот вопрос падре Пирроне не раз задавал самому себе, но ответить на него ему было нелегко главным образом потому, что он пропустил мимо ушей или посчитал преувеличением сказанное доном Фабрицио однажды в обсерватории. Теперь, почти год спустя, у него был ответ, но он не знал, как облечь его в форму, понятную дону Пьетрино, который был человеком далеко не глупым, но смыслил в антикатаральных, ветрогонных и, нечего греха таить, в возбуждающих чувственность средствах больше, чем в подобных абстракциях.
— Видите ли, дон Пьетрино, господ, как вы их называете, понять нелегко, они живут в особом мире; этот мир не был сотворен Богом, они веками создавали его сами своим опытом, своими горестями и радостями; у них исключительно прочная коллективная память, их огорчают или радуют вещи, которые для вас и для меня ровно ничего не значат, а для них жизненно необходимы, потому что связаны с классовыми воспоминаниями, надеждами, страхами.
Божественному провидению было угодно, чтобы я стал скромной частицей самого славного из орденов вечной Церкви, призванной восторжествовать на земле. Вы занимаете место на другом конце лестницы, не скажу, что на нижнем, но на другом. Найдя большой куст душицы или гнездо шпанских мушек — вы их тоже собираете, дон Пьетрино, я знаю, — вы вступаете в прямую связь с природой, создавая которую Бог не воздвиг непреодолимой границы между добром и злом, дабы человек имел возможность свободного выбора; и когда к вам обращаются за советом злобные старухи или распаленные похотью девицы, вы спускаетесь в пропасть веков, на дно темных времен, предшествовавших свету Голгофы.
Старик смотрел на него с удивлением: он хотел знать, доволен ли князь Салина новым положением вещей, а ему толкуют про шпанских мушкек и про свет Голгофы. «Совсем от книг помешался бедолага!» — Про господ разговор особый, они живут уже по готовому порядку, в котором таким, как вы, знатокам трав положено снабжать их успокоительным или возбуждающим, а нам, священникам, — обнадеживать их насчет вечной жизни. Этим я не хочу сказать, что они плохие, вовсе нет. Просто они другие; быть может, они кажутся нам такими странными потому, что Уже достигли привычного равнодушия к земным благам — той вехи на пути в Царство Божье, которой мало кому дано достичь, кроме праведников. Быть может, поэтому они не обращают внимания на те вещи, что имеют большое значение для нас. Живущим на горах нет дела до комаров внизу, а жителям Египта ни к чему зонты, зато первые боятся обвалов, а вторые крокодилов, тогда как нас с вами обвалы и крокодилы мало волнуют. У господ свои страхи, свои огорчения, нам неведомые: я видел, как дон Фабрицио, при всей его серьезности и уме, впал в ярость из-за того, что ему плохо погладили воротник рубашки, и мне достоверно известно, что князь Лискари целую ночь не спал от злости только потому, что на обеде у наместника его посадили не на то место. Неужели, по-вашему, породу людей, которых выводит из себя плохо выглаженное белье или отведенное место за столом, можно назвать счастливой и, следовательно, высшей породой?
Дон Пьетрино уже совсем ничего не понимал: чушь какая-то, чем дальше, тем больше: воротники, крокодилы. Выручил собирателя трав природный здравый смысл крестьянина.
— Но если это так, падре, тогда все они попадут в ад!
— Необязательно. Одни попадут, другие спасутся, все будет зависеть от того, как они жили в своем мире — мире, диктующем определенные условия. Салина, например, вот вам крест, выкрутится: он честно играет, по правилам, не мошенничает. Господь карает тех, кто, зная божественные законы, нарушает их по собственной воле, кто по собственной воле ступает на дурную дорогу; но те, кто следуют своим путем, не совершая при этом мерзостей, могут спать спокойно. Если вы, дон Пьетрино, начнете продавать цикуту, выдавая ее за мяту, гореть вам в адском огне. Но если вы однажды сделаете это по неведению, то какая-нибудь тетушка Тана умрет благородной смертью Сократа, а вы на белых крыльях, в белоснежном хитоне, отправитесь прямехонько на небо.
Смерть Сократа — это для собирателя трав было уже слишком: он уснул, а что еще ему оставалось делать?
Падре Пирроне заметил, что дон Пьетрино спит, и даже обрадовался этому обстоятельству: теперь он мог говорить спокойно, без опасения быть неверно понятым, а говорить ему хотелось, хотелось закрепить в четких, при всей их витиеватости, фразах обуревавшие его смутные мысли.
— Они делают много добра, что правда, то правда. Если б вы знали, скажем, сколько семей давно оказались бы на мостовой, если б им не помогали обитатели дворцов! И ведь они не требуют взамен ничего, даже от мелких воришек не ждут, что те из благодарности перестанут красть. Они поступают так не из кичливости, а в силу непонятного атавистического инстинкта, не позволяющего им вести себя иначе. Хотя может показаться, что это и не так, но они куда меньшие эгоисты, чем многие другие: в блеске их домов, в пышности их празднеств нет самовосхваления, почти как в великолепии церквей и литургии, когда уместно вспомнить выражение ad maiorem gentis gloriam — к вящей славе людской, — что в их случае означает искупление многих грехов; за каждый выпитый ими бокал шампанского они угощают шампанским пятьдесят человек, а когда они кого-то обижают — с кем не бывает? — это не столько их личный грех, сколько вина сословия, упрочивающего свое положение. Например, fata crescunt[70], и дон Фабрицио взял под защиту и воспитал своего племянника Танкреди, то есть спас бедного сироту, не дал ему погибнуть. Вы можете сказать, будто он сделал это потому, что мальчик тоже был из господ, а для другого бы, мол, он палец о палец не ударил. Это так, но зачем бы ему стараться ради другого, если он искренне считает других неудавшимися экземплярами, безделушками из глины, вылепленными настолько топорно, что их и в гончарную печь помещать не имеет смысла?