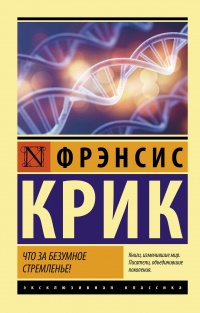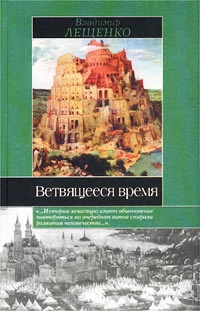Книга Крик коростеля - Владимир Анисимович Колыхалов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Набили рыбой широкий крапивный мешок. Завязывая горловину, Нитягин высказывался:
— Когда я дорвусь до чего-нибудь, то удержу не знаю. По мне так: хоть раз, но докрасна! Что говорил Мичурин? От природы надо взять все и ничего ей не оставить!
— Не ври! — простодушно возразил Федор Ильич. — У него не так сказано…
— Тогда кончаем. Мы не грабители! Нам и мешка хватит. Но второй тоже набьем — на всякий случай!
— Ну и озеро! — восхитился Синебрюхов. — Как в сказке!
— Уху варить будем?
— А как же! Я захватил бутылку со звездочками…
За уху взялся Синебрюхов: ему это было в радость.
На носу лодки очистил, распотрошил карасей, желчь и кишочки выбросил, а все остальное оставил — икру, пузырь, печень. Знал, не забыл, что только при этом уха выйдет наваристой, белой на цвет, душистой. По спинкам он сделал надрезы — рассекал мелкие косточки в мякоти, чтобы потом при еде не мешали…
Прошло с полчаса, и сняли с огня котел. Уха была жирной и светлой, точно сваренная на молоке. Kpупные блестки сбивались к краям. Синебрюхов не стал вылавливать налетевшие от костра угольки.
Сели, выбрав местечко посуше. Взяли по деревянной ложке, вынули карасей на кусок бересты, посыпали сверху солью: рыба в ухе соли недобирает.
И сладка же была ушица! И вкусны же караси! И «три звездочки» прошли мягко, как прокатились. Занюхивали хлебной корочкой, захлебывали ухой.
— В ресторанах к такому напитку лимон подают. А где-то и устрицы, — произнес Синебрюхов.
— А в Нарыме у нас и диким хреном закусывать можно! — сказал Нитягин, вонзаясь зубами в жирный карасевый загривок. — Какая там, к черту, устрица! Вот уха на глухом берегу… Я бродячую жизнь всем нутром понимаю. Помнишь, у Есенина есть слова: «дух бродяжий»? Этот самый бродяжий дух у меня не избылся.
— Понимаю, — кивал Синебрюхов. — Мы тоже, в степи у себя, выезжаем. Но там — не то! Тут все родное, близкое И воздух мягкий — сам в грудь вливается. И карась — не карп. Карп — рыба слишком домашняя.
После ухи полежали у костра. Боясь простудиться, Нитягин подостлал под себя кусок лосиной шкуры: через нее никакая сырость не проберется. А Синебрюхов повалился прямо на землю, немного бравадничал, надеясь на свою закалку.
— Чахотку не подхвати, — предостерег Нитягин.
— Плевать! Я у себя дома в Ишиме до самого ледостава купаюсь…
Затушив огонь, чтобы не пошел пал по гриве и не добрался до островка сосняка, поехали назад. Загрузка давала знать: выбираться по истоку было уже труднее. Как вытолкнулись к черной таежной речке, так остановились перевести дух. Федор Ильич разулся, выжал портянки, вылил из сапог воду — зачерпнул в одном месте — подвернулась нога на кочке. У Нитягина ноги были сухие. Он отогнул голенища, пригладил, охлопал на коленях брюки, потянулся, как в неге, обласкал взглядом добычу.
— А попадемся инспектору с таким ворохом рыбы — отымать начнет, — сказал Иван Демьяныч.
— Почему? — как бы споткнулся на слове Федор Ильич. — Ведь карась незапретный?
— Весной, в нерест, все рыбы запретные. Разве только налим! Этот умудряется отметать икру в январе-феврале. А тут… Нерест — раз. Много поймали, пожадничали — два. Ну и куда деваться?
— А чего ты мне сразу не говорил? — заморгал Синебрюхов.
— Не переживай! — Нитягин криво улыбнулся. Потом поменял пустой бак на новый, наполненный. Достал папиросу и закурил.
— Может, ночи дождаться? — спросил затаенно Федор Ильич.
— Чтобы воткнуться в корягу? С меня Тыма хватит!
Отдыхали, не торопились. Трудно досталось им переталкивание груженой лодки, вытанцовывание на шатких затопленных кочках, исчезающих из-под ног, едва наступишь на них.
— Трогай! — вдруг крикнул Нитягин и запустил мотор. Речка их подхватила и понесла на упругой, атласной спине.
Слабый ветер чуть морщил воду. Было светло. Широко голубел простор, но стали тревожными крики чаек.
Справа был близкий лес. Нитягин повернул к нему голову и смотрел неотрывно мгновение, другое.
— Туча оттуда ползет, из-за леса. Пока нам ее не видать. Чайки зря не подымут галдеж. — И опять, как давеча, усмехнулся криво. — А ты там болтал про какие-то… растворимые облака! В мае в Нарыме сопля примерзает к губе… тающая у печки!
— Ерник ты, бакенщин Нитягин, — с раздражением сказал Синебрюхов. — Особачился!
— Хоть лешим меня назови! — захохотал Нитягин, цвиркнул слюной. — Я такой — неотесанный! Заскорузл, зачерствел. Мы с тобой — разные люди. Хочешь, скажу напрямую?
— Говори, — сдержанно произнес Федор Ильич.
— Душа у тебя запарафинилась! Нарымское ты растерял, а что приобрел взамен — сам ясно не представляешь.
— Хуже, чем был, не стал.
Иван Демьяныч рассмеялся благодушно, довольно.
— И чего мы сцепились опять? Туча ползет. К дому скорее надо!
Так они и бежали по легким волнам. Крепнущий ветер давил им в спины, холодил шею, а туча махристым краем уже нависала над ними…
7
Как ни старался Иван Демьяныч ускользнуть от тучи, она нагнала их где-то на середине пути и обдала таким ветровым холодом, что у обоих начали коченеть скулы и неметь пальцы. Пропала всякая охота не то что спорить, переругиваться, но и вообще говорить. Зубы стучали, деревенел язык. Мокрый, липучий снег тяжко носился в воздухе. Сжавшись, оба сидели нахохленные, как мокрые петухи. Каждый удар волны встряхивал их, отнимая последнее тепло.
«Повернула погода, — лениво думал Федор Ильич. — То облака в синеве растворялись, то крутоверть разом! В Нарыме от погоды всякой напасти жди. Да и не только в Нарыме». Синебрюхову вспомнилась зимняя степь, когда они возвращались однажды в машине из командировки. Забуранило ни с того ни с сего, белого света не видно. Чуть не замерзли, не спаси их казах, попавшийся чудом навстречу.
«Природа свое возьмет, — продолжал думать Федор Ильич и этим как бы оттесняя холод. — Посылая напасти, природа как бы напоминает человеку: ты не царь и не мни себя им; ты всего только ветвь моя — ветвь живая, могучая, но не всесильная. Дружбы со мной разумом добивайся и верной любовью ко мне…»
…Приехали, слава богу, без происшествий. Выдернули подальше на берег лодку, прикололи к песку ломиком, а мешки с рыбой таскать сил уже не хватило. Скорее переоблачиться в сухое! Скорее согреться!
Нитягин достал из потайного ларца полную фляжку. Не раздумывая, Федор Ильич, вслед за Иваном Демьянычем, принял «во спасение души и тела». Перехватило дыхание, выдавило слезу из глаз, но скоро приятная теплота стала заполнять собою все существо его. Легко-то как стало!
— Рыбу бросим на снег, и она