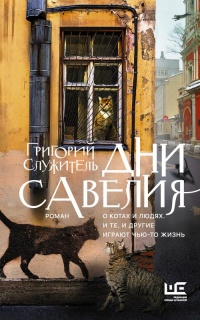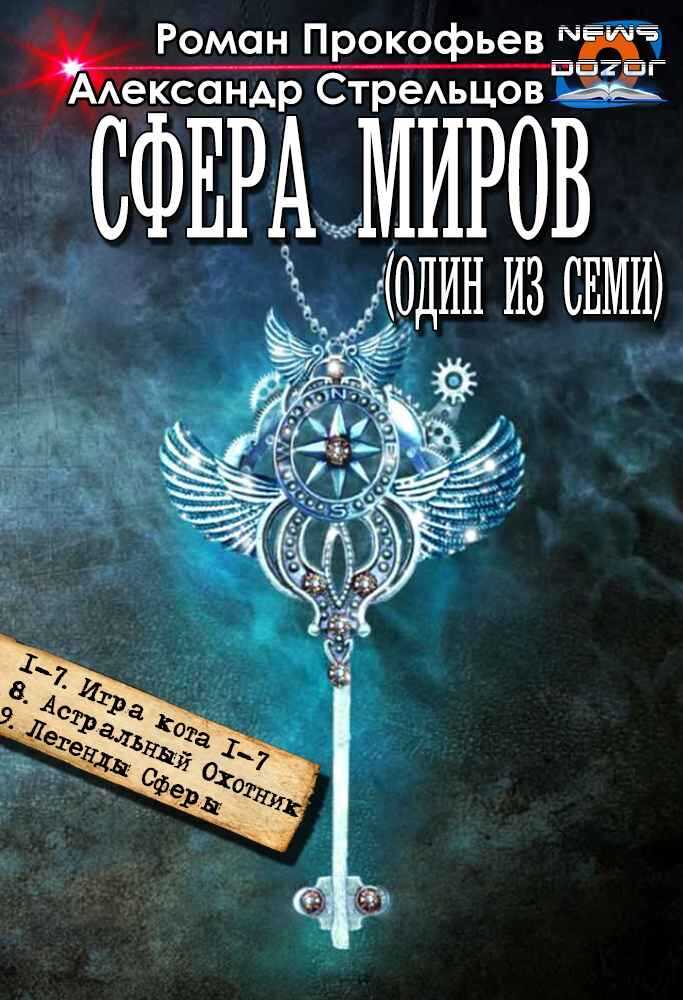Книга Житейские воззрения кота Мурра - Эрнст Теодор Амадей Гофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пение Юлии в смысле голоса и методы всецело носило серьезный, патетический характер. Однако, несмотря на это, шаловливое настроение ее проявлялось, когда она воспроизводила забавные комические вещицы, и это выходило прелестно и грациозно. Крейслер приучил себя к своеобразному, несколько странному, но непреоборимо увлекательному исполнению итальянских buffi[41], нынче он даже почти утрировал их манеру, ибо голос Крейслера казался иным, когда он к высочайшей драматической выразительности добавлял тысячи нюансов, при этом он корчил такие невообразимые рожи, которые и самого Катона могли бы заставить расхохотаться.
И конечно же, все зашумели и раскатисто захохотали.
Крейслер в восторге поцеловал Юлии руку, которую она у него по совершеннейшему малодушию тут же отняла. «Ах, – сказала Юлия, – ах, капельмейстер, я никак не могу привыкнуть к вашим странным капризам, причудами я не хотела бы их называть, я не могу совладать с ними! Эти сальто-мортале из одной крайности в другую разрывают мне грудь! Я прошу вас, милый Крейслер, не требуйте от меня больше, чтобы я, глубоко потрясенная, когда еще слезы искренней печали отзываются в моей груди, пела комическое, хотя бы все это и было так изящно и красиво. Я знаю это – я совладаю с этим, я исполню это, но после этого я делаюсь совершенно разбитой, усталой и больной. Не требуйте этого от меня больше! Не правда ли, вы обещаете мне это, милый Крейслер?»
Капельмейстер хотел ответить, однако в это самое мгновение принцесса обняла Юлию, смеясь громче и безудержней, чем это какая-либо обер-гофмейстерина могла бы счесть приличным или что сия обер-гофмейстерина сочла бы возможным взять на свою совесть.
– Приди на грудь мою, – воскликнула она, – ты, милейшая из всех мельничих, самая голосистая, самая капризная! Ты дурачишь всех баронов, всех чиновников, всех нотариусов вселенной и, пожалуй, еще даже… – Прочее, что она еще хотела сказать, заглушил ее раскатистый хохот.
И затем, поспешно обернувшись к капельмейстеру:
– Вы меня совершенно примирили с собой, милый Крейслер! Это прекрасно, в самом деле – прекрасно! Только в разладе, в противоборстве разнообразнейших впечатлений, разноречивейших чувств возникает высшая жизнь! Благодарю вас, от души благодарю и разрешаю вам поцеловать мою руку!
Крейслер схватил протянутую ему руку, и снова, хотя и не столь сильно, как прежде, его пронзили удары пульса, так что одно мгновение он вынужден был помедлить, прежде чем прижать наконец к губам нежные пальцы, с которых была снята перчатка, затем он поклонился с такой учтивостью, как будто он еще и теперь по-прежнему оставался советником посольства. Он и сам не знал, как это произошло, но почему-то это физическое ощущение, возникшее в нем, когда он прикоснулся к пальцам принцессы, вдруг показалось ему чрезвычайно забавным. «В конце концов, – сказал он самому себе, когда принцесса покинула его, – в конце концов, ее светлость есть не что иное, как лейденская банка, она валит с ног порядочных людей, сражает их электрическими разрядами чуть ли не наповал – одним словом, как уж их светлости заблагорассудится!»
Принцесса вприпрыжку бегала по залу, смеялась, напевала «La Rachelina molinarina» и прижимала к сердцу и целовала то ту, то другую даму, уверяя, что никогда еще в ее жизни ей не было так весело и что этим она обязана премилому капельмейстеру. Серьезной и чопорной Бенцон все это претило до чрезвычайности, и она не могла удержаться, чтобы в конце концов не увлечь принцессу в сторону и не шепнуть ей на ухо: «Гедвига, умоляю вас, что за поведение!»
– Я полагала, – возразила принцесса, сверкая глазами, – я полагала, любезная Бенцон, мы не станем нынче выражаться тоном обер-гофмейстерины и отправимся спать! Да! В постель – в постель! Спать пора! – После этого она попросила позвать ее карету.
Если принцесса вся была судорожная веселость, то Юлия, напротив, затихла и погрустнела. Подпирая голову рукой, она сидела у рояля; явственная бледность, затуманенный взор свидетельствовали, что ее неудовольствие дошло до такой степени, что причиняет ей чуть ли не физическую боль.
Впрочем, искрометные бриллианты крейслеровского юмора также отсверкали. Избегая всяких разговоров, капельмейстер тихонько пробирался к дверям. Бенцон загородила ему дорогу. «Я не знаю, – сказала она, – что за странная хандра вынуждает меня нынче…»
(Мурр пр.)…все было таким знакомым, таким уютным, таким родным, сладчайший аромат – ах, я и сам не ведаю, какого изумительного жаркого, – синеватыми тучками вздымался над крышами, туда, туда – ввысь, и как будто бы из какой-то дальней, дальней дали, в шелестах и стенаниях вечернего ветра шептали какие-то кроткие голоса: «Мурр, возлюбленный мой котик Мурр, куда это ты запропастился?»
Почто в груди моей стесненной
Вновь ожила блаженства дрожь;
Иль, с небожителями схож,
Взмывает ввысь мой дух плененный?
О сердце – в упованья миг
Вступаю на неслышных лапах!
Былая боль скорбей моих
Исчезла! Счастья я достиг:
Я чую жареного запах!
Так я пел и, невзирая на отчаянный шум пожара, погружался в прелестнейшие грезы. Но увы, и здесь, на крыше, меня по-прежнему преследовали ужасающие проявления донельзя причудливой светской жизни, той самой, в которую я так внезапно впрыгнул. Ибо, прежде чем я успел оглянуться, из ближайшего дымохода вылезло одно из тех удивительных чудовищ, которых люди именуют трубочистами. Едва заметив меня, этот чумазый прощелыга завопил:
– Кошка, брысь! – и швырнул в меня свою метелку.
Увернувшись от метелки, я перепрыгнул на соседнюю крышу и попал в водосточный желоб. Но кто опишет мое веселое удивление, более того, мой радостный испуг, когда я уразумел, что нахожусь на крыше дома моего дорогого хозяина. Проворно карабкался я от одного слухового окна к другому, но все они были заперты. Я заголосил, но напрасно, никто меня не услышал. А между тем клубы дыма с пылающего дома уже поднялись высоко, водяные струи шипели в этих клубах, тысячи голосов вопили, смешиваясь; пожар становился все более устрашающим. Внезапно слуховое окно отворилось и из него выглянул мой маэстро Абрагам в своем желтом шлафроке. «Мурр, милый мой котик Мурр, вот, стало быть, где ты, иди сюда, иди сюда, серенький!» – так радостно воскликнул маэстро, увидев меня. Я не преминул всеми теми средствами, которые были в моем распоряжении, выразить ему свою радость: это был чудесный, великолепный миг встречи, мгновение истинного торжества.
Маэстро стал гладить меня, когда я прыгнул к нему на чердак, так что я от истинного наслаждения стал издавать те нежные, сладостные звуки, которые люди